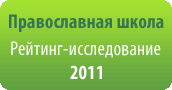Во время застоя она боролась в России с коммунистическим режимом за права человека и свободу веры. Тогда ее стали называть православной диссиденткой и в 80-е годы выслали из страны. Но если в России Татьяна Горичева боролась за западные свободы, то в эмиграции она, выступая перед тысячными аудиториями, рассказывала о России и Православии. Объездив десятки стран, от Латинской Америки до Южной Кореи, от Непала до Парижа, она рассказывала, что за железным занавесом в страшной, непонятной Советской России жива православная вера. Ее книги переведены на тридцать с лишним языков. В небольшой питерской квартире недалеко от Фонтанки Татьяна ГОРИЧЕВА встретилась с корреспондентом «НС» Мариной НЕФЕДОВОЙ.

СПРАВКА
Татьяна Михайловна ГОРИЧЕВА -- православный философ и публицист. Родилась в 1947 году в Ленинграде. Окончила философский факультет Ленинградского университета, была редактором самиздатовских журналов «Женщина и Россия» и «Мария». В 1980 году выслана из СССР вместе с другими участницами женского христианского движения. Окончила православный Свято-Сергиевский богословский институт в Париже. Издавала альманах «Беседы». С 1980 года по сегодняшний день ездит с лекциями и выступлениями об истории духовной культуры России и православном мировоззрении по всему миру. Автор более десятка книг, переведенных на многие языки: «Опасно говорить о Боге», «Человек непрестанно ищет счастья», «Православие и постмодернизм», «Письма о любви», «Только в России есть весна» и др. В настоящее время живет в Санкт-Петербурге и Париже. |
Нищета лучше сытости
-- В одном из писем вы писали: «Дай Бог, чтобы Россия осталась бедной страной». Почему так?
-- Когда меня выставили на Запад в 1980 году, больше всего меня поразила сытость в западной Церкви. Когда я в Австрии первый раз увидела по телевизору религиозную передачу, там какой-то сытый тип в дорогом костюме что-то говорит о Боге и Евангелии. Я тогда написала в своем дневнике: «Как опасно говорить о Боге». Под этим названием вышла книжка, она потом была переведена на 33 языка, ее прочел Йозеф Ратцингер, в то время мюнхенский кардинал, нынешний папа. И он во время своей мюнхенской проповеди сказал: «Вот, как здорово сказала русская христианка о нашей Церкви. Мертвая Церковь, потому что сытая. У нас есть все: мы можем путешествовать, все покупать, не думать о социальной страховке, болезнях, старости, можем наслаждаться любыми музеями и всем чем захотим, но у нас нет “единого на потребу”, мы потеряли вертикаль евангельскую, потеряли Бога. Мы не нуждаемся в Боге, поэтому мы Его потеряли, а вот Россия нуждается. Россия, которая живет в абсолютной нужде». А ведь тогда, в 81-м году, было не так плохо, как сейчас. Сейчас в людях такая депрессивность, угнетенность, отчаяние и нищета… Но это нищета, которая лучше сытости.
-- Вы считаете, что для духовного развития необходима бедность?
-- Она не необходима, но это одно из условий. Как сказано в Нагорной проповеди Христа, «блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» (Мф. 5, 3). Материальная нищета ставит границы нашему самомнению, гордости, самодовольству. Многие знакомые мне люди из православной среды ищут сегодня комфорта. На Западе я дружу с очень многими богатыми людьми, но они ответственны, не выпендриваются, помогают другим, замечают страдания других. А в России сейчас комфорт -- это большей частью какая-то необратимый поворот, отказ от напряженного бытия. Хотя я не могу критиковать, я понимаю, как люди исстрадались.
-- Что же плохого в комфорте?
-- Большинство людей не выносят испытания комфортом. Они начинают требовать все больше и больше, никак не могут успокоиться. Основная черта буржуазности -- идти в этом дальше. Буржуазный человек не живет любовью, творчеством, синергией, единением с ближним и Богом, а живет сравнением. Рекламу смотрит: «А почему у меня вот этого нет?» У него теряется внутренний аристократизм. Бердяев говорил о духовном аристократизме, и это наша задача сегодня: внешнее должно быть минимальным. Ведь в основе христианства -- аскетика, без аскетики Россия пропадет. Россия без духовных вертикалей и смыслов -- ничто, гораздо хуже, чем первоначальный капитализм на Западе и в Америке, тот хотя бы был религиозен.
Преображение России будет медленным
-- На Западе социальное служение очень развито, практически нет детских домов, совсем другое отношение к инвалидам. При этом вы говорили, что в Европе утрачена культура жизни. Как это сочетается?
-- Под культурой жизни я имею в виду то, о чем писал Шпенглер: есть культура, а есть цивилизация. Цивилизация -- это внешнее, когда все гладко и красиво. А культура -- это когда есть связь с религиозным архетипом. В любой русской церквушке ты чувствуешь, что ты не один, даже если там никого нет, и хочется упасть на колени. Вот это и есть культура жизни. В Европе это утрачено.

Татьяна Горичева несколько раз приезжала на греческий остров Патмос, посещала святую пещеру Апокалипсиса, где апостол Иоанн жил и писал свое Откровение. "Ни разу еще не вышла я из Пещеры неутешенной, - писала она в своих дневниках. - И сейчас, приехав на Патмос, с сердцем, полным самых суетных, самых ненужно мелких, но прилипчивых мыслей, освободилась от них, прожив два дня в монастыре, побывав теперь в Пещере". На фото: монастырь построен вокруг пещеры Апокалипсиса
Действительно, на Западе социальное служение очень развито. Это совершенно удивительное приобретение Европы благодаря ее христианским корням, и сейчас это уже не вытравить из европейского опыта.
Бомжи там тоже есть, но это почти всегда собственный выбор. Все получают какой-то социальный минимум. Во Франции это, например, 380 евро в месяц, вполне можно жить. И кроме этого, существует еще другая социальная помощь. Она в основном идет от католической церкви. До сих пор есть католические больницы, где сестры милосердия -- монахини.
Католики многому научили мир. Наша Православная Церковь сильна своим мистическим опытом, литургией, опытом мученичества, но по сравнению с католиками мы пока беспомощны в социальном служении, потому что только что вышли из плена. Совсем недавно говорить о Боге было нельзя нигде: ни в больнице, ни в троллейбусе.
-- Тем не менее, есть мнение, что современное западное общество не отличается духовностью…
-- Многие мои знакомые на Западе все время что-то покупают. Сейчас мещанство -- это не просто цветочки и канареечки, сейчас мещанство стало агрессивным. Если ты все время не покупаешь, на тебя смотрят, как на сумасшедшего. В Европе, наверное, больше девяноста процентов людей -- это даже не материалисты, это просто потребители.
Конечно, и на Западе есть великие аристократы духа, и необязательно это бедные люди или какие-то талантливые писатели, это может быть и обыкновенный предприниматель. Например, у меня есть друзья католики, Мишель Пантон и его семья, я просто поражена, как они живут. Очень богатые люди, у них замки, стада овец, фабрика гобеленов. И это люди, которые из поколения в поколение живут постоянной духовной работой. Я видела, как их дети, которые имеют все, совершенно не распущены, не циничны, не наркоманы. Это дети, которые уже в 14 лет работали волонтерами в тюрьмах и детских домах. Нельзя, конечно, говорить, что там все с жиру бесятся.
Я знала лично некоторых действительно святых людей на Западе -- братья Жакар, мать Тереза. Они светились, они были радостные, это были не просто какие-то социальные работники, они были молитвенники. Они знали, что делать что-то без молитвы бесполезно.
Любовь -- это самое трудное в мире, но любовь без молитвы никакого смысла не имеет, потому что она превращается или в желание властвовать, или в какой-то эгоизм. Без этой открытости Высшему Началу, без иерархии ценностей любовь исчезает, а иерархию ценностей может дать только молитва. Меня ужасает, в том числе и в западном опыте, что молитва исчезает.
-- А как вы оцениваете те перемены в обществе, которые происходят в России с конца 80-х?
-- Когда я приехала в Россию после восьми лет безнадежного умирания своих надежд, потому что думала, что коммунизм будет длиться бесконечно, я приехала с огромным чувством благодарности за чудесное избавление от Запада, за возвращение на родину. У меня был сильный перекос в сторону полного восторга, что страна еще живет, что церкви открылись, друзей выпустили из тюрем. Я даже поверила в перестройку, стала демократом. Меня приглашали возглавлять философский факультет в университете, даже приглашали быть министром культуры, а я спросила: в чем будет состоять моя будущая работа? Мне говорят: будешь выдавать квартиры, путевки на Запад… Тут я и задумалась обо всей этой новой демократии.
Очень жаль, что в сегодняшней России люди совсем беспомощные, бедные, больные, спивающиеся. У меня под окнами здесь день и ночь стоит мат, кто-то кого-то бьет, даже убивает, стреляют, кидают бутылками. Но люди эти чаще всего неверующие, еще не успели найти Бога.
Лет десять-пятнадцать назад я была в Рио-де-Жанейро в большом бедном квартале. Там в каких-то картонных коробках жило четыре миллиона человек, но все радостные. Это оттого, что у них христианство никогда не было убито. Там люди рождаются уже в религии, в надежде, любви. Все, естественно, крещены -- в Латинской Америке вообще нет атеистов. Церкви переполнены. Поэтому там изначально люди невероятно благодарны Богу. В России же бедность агрессивна, люди озлоблены.
Мы великий народ, громадная страна, у нас все очень таинственно и медленно происходит. И если мы выживем физически, то преображение России будет происходить медленно. Хотелось бы быстрее, но что делать.
Праздник разрушения
-- Вы православной были с детства?
-- Нет, я родилась в самой обыкновенной советской семье, мама учительница, папа топограф, родители мои любили Сталина, о Боге никто никогда мне не говорил. Жили мы в коммуналке в бараке, в квартире было 40 человек. Я была председателем совета дружины, комсомольским руководителем. Очень любила учиться, мне нравилось познавать, при этом я была очень тщеславна. Я была длинная, закомплексованная, меня обзывали, я сидела на последней парте с двоечниками, такими верзилами, которые по три года в одном классе учились. Ножиком меня несколько раз кололи.
Потом я поступила учиться в радиополитехникум -- там все предметы преподавали на немецком языке, а я почему-то с детства полюбила немецкую культуру. Четыре года нас обучали радиотехнике на немецком, даже немцы преподавали из ГДР. Я заговорила по-немецки. Когда приехала в Германию, меня даже стали подозревать, что я заслана КГБ, раз так хорошо знаю язык. Так вот, учась в техникуме, я была комсомольским руководителем и одновременно начала читать книги немецких романтиков -- Новалиса, Айхендорфа, и совершенно вошла в мир романтизма и абсолюта, какой-то чистоты немецкой души, верности высшим ценностям, о которых я совершенно не знала, что они есть, но душа моя стремилась к ним.
Потом я поступила в университет на философский факультет. И тут в 68-м году случился вход советских войск в Чехословакию. Я никогда особо не размышляла о политике, у меня не было знакомых диссидентов, но тут меня это как-то дернуло -- почему наша армия вошла в чужую страну? Я положила свой комсомольский билет на стол и вышла из комсомола. И с этого момента я отошла от системы, стала заниматься философией, задумалась о смысле жизни, стала читать экзистенциалистов, читала по-немецки Кафку, Кьеркегора, Сартра, Камю, Хайдеггера. Это была моя философия: человек -- вечная драма, он должен стоически выносить бессмысленность бытия, он абсолютно одинок. Это философия нигилизма. Вскоре я обнаружила таких же людей, которые уже пьянствовали вовсю. У нас было кафе «Сайгон», там были и экзистенциалисты, и наркоманы, и уголовники, и капитаны дальнего плавания, и какие-то поэты безумные, которые лежали регулярно в психушках. Позже там появились музыканты, которые любили «Роллинг Стоунз», а мы занимались больше поэзией. Я вообще книжный человек, я полдня сидела в публичной библиотеке, а когда уставала читать, шла в «Сайгон», где было воспроизведение всего прочитанного в действии. Это был праздник разрушения советских ценностей, но одновременно и праздник созидания, потому что там собирались люди творческие. Сейчас, правда, из них уже почти никого не осталось. Большинство спились, или умерли, или уехали в эмиграцию.
Тогда же я стала заниматься йогой, потому что в «Сайгоне» были йоги, которые говорили: вы все ничтожества, а мы вот в озарении, мы стали богами. И мне сначала все нравилось в них, но потом один момент меня поразил страшно и негативно -- они равнодушны к страданиям ближнего. Они говорили: даже если кто-то рядом тонет -- это неважно. Я поняла, что это не мое, но не знала, как выбраться из этой йоги.
Тогда у йогов был самиздат, и у меня оказалась такая книжечка, в которой была молитва «Отче наш». Мне было 26 лет, и я не верила в бородатого, «старушечьего» Бога. И вот я шла по полю в Стрельне, и читала эту книжечку, и прочитала «Отче наш» раз шесть совершенно равнодушно, и вдруг -- такое озарение, не в смысле видение, а я была схвачена любовью, потоком любви! Я вдруг поняла, что есть Любовь. Что Бог меня любит. И совершенно все изменилось. Я мир не любила, всегда презирала, я чувствовала себя старухой в 26 лет, а тут я поняла, что мир такой жаждущий любви, невероятно красивый, ранимый, нуждающийся во мне. Я не знала, что такое Церковь, но, конечно, знала, что есть храмы, несколько храмов было открыто. Я пошла в Никольский собор, увидела таких же, как я, людей, то есть прежних своих собутыльников.

Татьяна Горчиева о своей молодости: "Я мир не любила, всегда презирала, я чувствовала себя старухой в 26 лет, а тут я поняла, что мир такой жаждущий любви, невероятно красивый, ранимый, нуждающийся во мне"
Резкий переход к вере был у многих тогда. Мы вообще ничего не знали. И тогда я у себя дома организовала семинар из таких же, как я. Евангелие нам баптисты привезли. Потом мы стали сами читать отцов церкви, потому что в библиотеке все это было. Мы начали с каппадокийцев, с Афанасия Великого, Августина. Несколько лет подряд просто изучали. Мы жили тогда в браке с поэтом Кривулиным, в подвале большой квартиры, с крысами -- это была нежилая квартира, мы ее захватили и жили там. Люди заходили прямо в окошко. Приходили поэты, художники, философы, некоторые из них потом ушли в монастырь.
 |
| В 80-е годы в советской России быть духовником молодежи считалось небезопасно. Отец Александр Анисимов один из немногих, кто не побоялся |
Мы знали, что нужно иметь духовника. Мы пошли по храмам, батюшки нам говорили: как мы счастливы, молодежь идет, но идите в какой-нибудь другой храм, у нас семья, дети... И наконец, в одном храме священник сам подошел ко мне -- а мы стояли с целой толпой всяких подпольных поэтов -- и говорит: я знаю, что вы ищите духовника, я хочу быть вашим духовником. Это был отец Александр Анисимов, сейчас он уже скончался.
Его вызывали потом, ругали. Но мы старались беречь священников, к нам приходили переодетые священники, но мы не говорили никому, кто у нас. Правда, все равно КГБ все знало. За эти семинары меня регулярно арестовывали. Но всегда отпускали, больше трех суток нельзя было держать.
В 1979 году мы организовали женское движение. Выступали против войны в Афганистане, прятали мальчишек, которых брали на эту войну. Нас арестовывали очень часто, брали прямо на месте, нескольких женщин посадили в психушку, в тюрьму. А потом летом 1980 года, перед Олимпиадой, нам сказали: или вы за три дня уезжаете, или мы сажаем вас в тюрьму. Батюшка меня благословил уезжать: «Ты можешь там говорить о Православии, там учиться богословию. А в тюрьме ты погибнешь». Мне было очень страшно покидать Россию. Я любила Францию, Германию, мне было интересно посмотреть на эту культуру, но я еще не знала, что я русский патриот. Поняла это только на Западе.
Судьба и свобода
-- Живя в западном мире, не трудно ли было ощущать себя православной?
-- Как раз легко. Здесь, в России, это гораздо тяжелее. Иногда кажется, что люди на Западе больше преклоняются перед Православием, чем мы, а мы неблагодарные, не ценим, что нам даны такие сокровища… В 1987 году я брала интервью у епископа Йозефа Ратцингера, нынешнего папы Бенедикта XVI, и вот что он сказал о русском Православии: «Что мне нравится у вас -- это глубокое мистическое измерение веры, которое так помогает нам, католикам, избавиться от юридического и рационализирующего подхода к истинам. В Православии меня привлекает именно внутренняя жизнь, жизнь из середины, из внутреннего созерцания, харизма монашеской жизни, с одной стороны, и церковный народ -- с другой. Меня поражает простота, сила и церковность народной веры, мистическая глубина Православия и исторически философское и пророческое видение мира в русской культурной традиции». По-моему, более точно не скажешь.
-- И последний вопрос к вам как к философу: что такое судьба и что такое свобода?
-- Судьба… Я считаю, что есть судьба. Некоторые православные говорят, что это языческое понятие, античное. Но когда я почитала Лосева, смотрю, он тоже говорит о судьбе, а он православный человек. Судьба -- это то, что Бог о нас замыслил, но то, что мы не можем узнать. Это момент тайны Божьего замысла. Судьба -- от слова «суд», суд Божий. Мы не знаем, какой суд Божий о нас будет.
Свобода -- это открытие себя перед лицом Бога. Тут надо прежде говорить о послушании. Через послушание мы открываем себя. Есть такое понятие -- синергия, соработничество с Богом. Когда ты слышишь глас Божий и понимаешь, что это совпадает с твоим «Я» -- это свобода. Я обрела свободу, когда поняла, что могу служить, я нашла себя. Пока ты Бога не нашел, ты и себя не найдешь. Так и будешь думать, что ты физик, химик, мать семейства... Мы есть избранное священство, люди, взятые в удел, -- апостол Петр так говорил, и это к любому человеку имеет отношение.
Версия для печати
Тэги:
Личность
Женщины в Церкви
Опыт веры