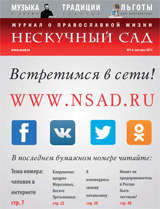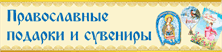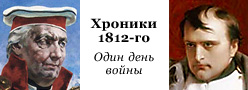Нынешние студенты живут в постхристианском мире, то есть в мире, который посетил Христос. Их мировоззрение бесконечно далеко от церковной проблематики. И тем не менее христианство, помимо их воли, оставило в них свой глубокий след. Может быть, именно это может стать ключом к взаимопониманию между Церковью и светской молодежью? Своим мнением и опытом делится священник Дмитрий СВЕРДЛОВ.

Робкие попытки сближения
В подмосковном городке, с которым переплелась моя жизнь, есть один вуз, филиал московского. Не то чтобы ахти какой, но все-таки высшее образование. Без отрыва от работы учиться можно, и без отрыва от малой родины — далековато до Москвы.
У нас в Церкви есть сегодня такая понятная тенденция: Церковь должна быть представлена в системе образования. В школьном, и в вузовском. В общем, после очередного районного совещания и предварительных консультаций меня направили в наш институт для проведения переговоров.
Настроение у руководства вуза одновременно осторожное и «дистанцированное», но при этом крайне доброжелательное. С одной стороны, есть значительный интерес к религии как к значимой стороне общественной жизни. К православной церковности имеется выраженный интерес как к обширному позитивному феномену. Настороженность же связана с необходимостью сохранить сугубо светский характер образования. Позиция, на мой взгляд, достойная понимания.
Из того, что немного резало слух — некоторое потребительское отношение к Церкви: вроде того, что «вы должны» — пусть не руководству вуза, а скорее «детям», студентам. Когда обсуждались возможные форматы сотрудничества и конкретные мероприятия, требующие пусть небольшого, но финансирования (например, лекции приглашенных специалистов), априори предполагалось (но прямо не озвучивалось), что Церковь больше заинтересована в сотрудничестве, чем вуз. Поэтому все расходы предполагалось возложить на Церковь.
В переговорах с нашей стороны участвовали двое: я, настоятель микроскопического строящегося сельского храма, и молодой батюшка — четвертый или пятый священник в большом соборе. Бюджет моего прихода совершенно не способен поддерживать никакие сторонние, даже самые важные, программы — если только оплачивать мне бензин и ремонт машины. Мой собрат вообще не располагает средствами, кроме зарплаты, на которую содержит многодетную семью. Я отчасти рад, что наши договоренности о работе с вузом не вышли тогда за рамки самого узкого круга мероприятий — иначе я не знаю, каким бы образом пришлось выкручиваться.
Мы танцевали друг вокруг друга где-то с полгода. В итоге те наши переговоры вообще ни к чему не привели, просто заглохли. Причем у обеих сторон, как потом выяснилось, создалось впечатление о полной незаинтересованности визави. Что ж, так проходит, наверное, этап узнавания друг друга. Мне особенно было обидно за предложенный факультативный курс «Духовное краеведение»: наш подмосковный район невозможно богат на историю и церковную архитектуру. Так что у меня была возможность ввести студентов в православный дискурс без риска совершить насилие над свободой совести, оставшись в рамках исторических знаний и культурологии. Но, увы.
Церковная жатва
Я уже было расписался перед начальством в собственной беспомощности, как из института неожиданно позвонили. И — очень — попросили прочитать курс лекций по религиоведению. Это был приятный подарок.
Переслали программу курса. Она озадачила: за двадцать шесть часов в самое горячее предсессионное время предлагалось познакомить второкурсников с наследием мировых религий. Программа начиналась с понятий «психология», «философия» и «феноменология религии». За последним пришлось самому лезть в словарь. Я согласился и стал готовиться, обложившись последними достижениями российской науки. Зарубежные друзья даже прислали несколько англоязычных текстов, но, слава Богу, на них не хватило времени.
«Слава Богу» — потому что все достижения оказались не нужны. Разочарование постигло меня на же первой минуте, когда я спросил студентов, как они думают, в чем и как им может помочь изучение предмета «религиоведение». Студенты направления «межкультурная коммуникация» встретили вопрос гробовым молчанием. Следующие два лекционных дня я пытался быть ответственным и буквально следовал программе в тщетных попытках объяснить «священное», «профанное», «имманентное», «трансцендентное», «культ», «магизм» и «веру». А потом забросил бесполезное. И к всеобщему, в первую очередь своему, облегчению, свел религиоведение к истории религий, понятной, наглядной и оттого востребованной.
Студенты таковы: уровень религиозных знаний — ноль, уровень культурных знаний — ноль, уровень общеисторических знаний — ноль. Это, конечно, не претензия к моим милым, прекрасным, живым, очень правильным и по-своему еще очень чистым ученикам. Если и претензия, то, наверное, к школе. Но на самом деле это вообще не претензия, а скорее просто факт. С которым что-то надо делать и как-то работать.
И еще несколько любопытных наблюдений. Мои студенты живут в постхристианском мире. В «постхристианском» — в самом лучшем смысле этого слова. В том смысле, что их мир — мир, в котором Христос оставил значительный, заметный след. «Церковь» для них — это Православная Церковь, «религия», «вера» — Православие, «священные тексты» — Библия, «аскетика» ассоциируется с Великим постом, «молитва» — с «Отче наш». Надо заметить, что они очень светские молодые люди, похоже, что озабочены в основном проблемами взаимодействия полов. Их трудно заподозрить в конфессиональной ангажированности, их мировоззрение бесконечно далеко от церковной проблематики. И тем не менее христианство, помимо их воли, оставило в них свой глубокий след.
Они — церковная жатва, побелевшие нивы. Нет, их не удастся — надеюсь! — поймать на дешевый блицкриг триумфалистской ура-пропаганды «мы — самые лучшие», «мы — самые правильные». Им придется и объяснять, и доказывать, и выслушивать неудобные вопросы, и соглашаться с критикой. Придется учитывать их право быть такими, какими они хотят быть: ни лжи, ни насилия в свой адрес они не потерпят — слишком молоды и живы они для этого.
Делатели
Раньше я был категорическим противником преподавания Православия в школе. По одной причине — кадровой: те, кто собираются преподавать, сами нуждаются часто в обучении не меньше тех, кому они призваны преподавать. Причем педагоги нуждаются в обучении не только основам православной культуры, но и основам культуры вообще. Какому же тогда Православию научат детей вчерашние атеисты, агностики и оккультисты?
Но. Чем больше я смотрю в глаза своей небольшой аудитории, тем меньше категоричности во мне остается. В этих повзрослевших детях — огромный потенциал к восприятию того огромного мира, который несет с собой вера. Мира, которого они лишены мелочностью быта провинциального городишки и жвачкой массовой поп-культуры.
Но кто донесет им? Не расплескав знания, которое несет, не растеряв тех, кому он несет это знание? Не навязывая доктрин, не насилуя выбор? Смиряясь перед ограниченностью их молодости и смиряя свою веру до секулярного «религиоведения» — виртуозно, не опошляя саму веру?
Трудность усугубляется другим вопросом: кто это возьмется делать — за двести сорок рублей в час базовой преподавательской ставки?
Можно помечтать о выпускниках православных университетов, которые готовы взять на себя такой подвиг. О персональных стипендиях для студентов и грантах для преподавателей от Церкви — от епархий и Патриархии. Можно помечтать о системе выездных конференций и семинаров от православных учебных заведений, о лекциях лучших наших специалистов.
О многом можно помечтать. Есть что делать. Надо — делать.
священник Дмитрий СВЕРДЛОВ
Версия для печати
Тэги:
Церковь
Проповедь
Воспитание
Образование