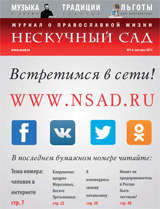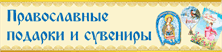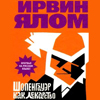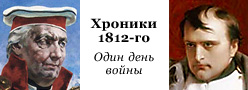Психотерапевт, писатель Ирвин Ялом ничего не писал о Православии. Но у него есть книга — художественная — в которой просто и в тоже время достаточно глубоко обсуждаются важные темы современности, так или иначе отраженные в нынешней церковной жизни, а может быть именно в ней отраженные с особой актуальностью. Называется книга «Шопенгауэр, как лекарство».

На фото Ирвин Ялом
Для меня эта книга - серьезный разговор о встрече и взаимном дополнении двух мировоззренческих позиций, двух видов жизненного опыта, она о встрече человека-«философа» и психотерапевтической группы, группы, как целого. Под «философией» я здесь понимаю некие умозрительные установки, опирающиеся на «авторитеты», поэтому и беру это понятие в кавычки.
Главный герой книги именем Филипп прожил бурную молодость. Он был одержим сексуальной зависимостью, или, как бы сказали православные, блудной страстью. В «удачные» для него дни он мог соблазнить нескольких девушек подряд. Со временем одержимость почти поглотила его, он почти перестал быть собой. Тяга к независимости от секса, к жизни в свободе и творчестве, к влекущей с юности философии помогли Филиппу преодолеть страсть.
Выход из зависимости, лекарство Филипп искал у великих умов прошлого. И нашел... у Шопенгауэра. Этот немецкий мрачный гений, вернее его слова и его жизнь настолько глубоко отозвались в сердце Филиппа, что его страсть как бы ушла сама собой. Филипп стал истинным философом, уединился, наслаждался книгами и размышлениями и готов был подражать своему кумиру Шопенгауэру до конца своих дней. Правда, ему нужен был заработок. Филипп решил, что его ум, образование и яркий опыт исцеления дают ему право стать консультантом, своего рода терапевтом-философом.
На этом этапе к Филиппу приходит психотерапевт Джулиус, пару десятков лет до этого пытавшийся безуспешно помочь ему избавится от пожиравшей его страсти. История Джулиаса не менее глубока и трагична, чем история Филиппа: прославленный опытный психотерапевт, вдруг узнает, что болезнь, неизлечимый рак, оставила ему жизни примерно на год. Первое отчаяние постепенно уступило место интересу к жизни, к людям, к судьбам. Джулиус вспомнил о Филиппе, олицетворявшем один из его полных профессиональных провалов.
В результате эти два человека заключают необычный договор: Филипп длительный срок посещает психотепевтическую группу, а взамен получает от Джулиуса справку о супервизии, необходимую для лицензии на частную практику терапевта. Собственно это и есть стартовая позиция книги: исцеляющая, «единственно верная» для Филиппа, почти что обожествленная им «философия» встречается с «группой», вернее с самой жизнью.
Три пути
Ирвин Ялом и не подозревал, что ставя вопрос о «философии» и о простом человеческом опыте, в том числе опыте группового общения, он очень точно характеризует одну из возможных историй «прихода к вере», воцерковления современных россиян. По сути эта книга об одном из вероятных путей от неофитства (новообращенности) к зрелости, от верующего «философа в футляре» к человеку, верующему лично и умеющему общаться и жить с людьми.
Можно условно разделить людей на три группы: с «обрядовым», с «психологическим» и с «философским» складом характера. О первых сказано так много, что и добавить нечего. Тем более, книга Ялома этой темы не касается.
Для лиц с «философским складом» первичны идеи и смыслы происходящего. В былые времена такой подход к религии наряду с «обрядовым», вероятно, преобладал. Жизнь текла по своим «рельсам», знать о чем-то значило верить. Для «философов» значение других людей и их опыта не так велико, им трудно общаться, говорить о своем внутреннем мире, о том, что «Бог сделал в их жизни», о том «как они уверовали» и «в чем их личная вера». Они меньше доверяют людям живым, но больше авторитетам проверенным историей. Они более волевые, для них важно познакомиться с идеями, узнать правильный путь. Веру и жизненные ценности они обретают в виде задач, которые надо философски (богословски) осмыслить и решить. Для таких людей более важны знания, информация, возможные «конструкции» и «технологии».
К примеру, совсем недавно среди пользователей Facebook произошел очень показательный спор о вопросе бывшего алкоголика непьющего 6 лет: как ему причащаться Тела и Крови Христа, ведь Кровь — это вино. В ответ его обвинили в ереси и богохульстве. Обвинители представили типичную «философскую» позицию и не учли, что у бывшего алкоголика есть уникальный свой опыт — он не пьет 6 лет (!), а ему предлагают пренебречь этим опытом ради «умозрительной» пока еще для него веры в «Тело Христово».
Но есть люди с иным складом — «психологическим». Вероятно сегодня таковых большинство. Им важно разобраться в своих чувствах, переживаниях, в своих желаниях, соотнести их с опытом других людей. К этому часто подталкивает современная культура. Еще в прошлом веке наши сограждане лишились родовых, социальных, сословных, культурных и прочих важных для традиционного общества «подпорок» в своей жизни и своем мировоззрении. Личная жизнь стала очень личной и от того уязвимой, человек более не может жить-двигаться по «рельсам» традиции. Каждый, по большому счету рассчитывает только на себя. Отсюда такая важность и такое бережное отношение к своему внутреннему миру.
Люди с «психологическим» складом более восприимчивы к общению, к «личным свидетельствам». Для них, чтобы обрести свой опыт, важно встретится лицом к лицу с чужим опытом, важно чтобы кто-то сопереживал (со-проживал) им, важно быть услышанными в личном, иметь тех, кто им доверился и самим доверять. Может быть, они не очень волевые, более хрупкие, но для них важно быть честными перед самими собой, важно опереться на свой внутренний ресурс. Люди с «психологическим» складом обретают жизненные ценности и веру в общении, в совместном бытии, они как бы прививают ценности к себе от чужой лозы. Я думаю, что нынешняя церковная жизнь очень мало ориентирована на таких людей.
С мертвыми иметь дело проще
О своем исцелителе Филипп говорит так же, как православные «философствующие» говорят об авторитетных, в том числе святоотеческих книгах и даже о Евангелии. Я этим не умаляю Евангелие, я хочу сказать, что для «выздоравливающего», будь то в психологическом или в духовном плане, увлечение идеями и примерами — достаточно общая особенность. Фраза Филиппа «Между знанием и лечением нет четкой грани» звучит сегодня очень по-православному. Я говорю не об учении Церкви, а том, что мы видим в повседневности. Если человек знает о чем-то, то считается, что он на пути к «выздоровлению» или «спасению». Как в примере про бывшего алкоголика и Причастие. Знание о Теле Христовом должно перевесить опыт. Катехизация последних 20 лет (по своей сути и форме книжная) вся построена на этом принципе. И это очень ясно считывается неофитами. Главное — знать то, что «правильно» и «авторитетно». Филипп говорит: «Глупо отмахиваться от идеи, которая принесла утешение стольким людям». И это абсолютно верно. Его ошибка — в уверенности, что идея (авторитетное мнение) сама по себе, то есть голое знание поможет и другим.
Приведу типичный разговор с Филиппом. «А как насчет твоих целей и смысла?» – спросили Филиппа. "Лично я, как и Шопенгауэр, хочу одного – желать как можно меньше и знать как можно больше" - ответил он. «Я говорю сейчас о божественном Шопенгауэре, о Ницше и Канте. Они – и я вместе с ними – считают, что человек, имеющий внутреннее богатство, не ждет от окружающих ничего, кроме одного – чтобы его оставили в покое...»
Из контекста ясно, что речь не просто о цитировании чьего-то мнения, а о цитировании Филлипом «истины в последней инстанции». Это типичная картина у православных, апеллирующих к «авторитетам», мол есть «они» и есть «я», который разделяю их точку зрения. Ярким примером такой позиции являются в христианстве приверженцы крайних «креационистских» взглядов, для которых «цитация» «божественных авторов» перевешивает не только здравый смысл, но и возможность познавать тайну творения в диалоге с другими людьми.
Очень показательно откликаются собеседники Филиппа на его рассуждения (жаль, что среди православных такие отклики редкость): «Филипп, я уже сыт по горло твоим Шопенгауэром... Я хочу слышать про тебя». Или еще: «Филипп, я бы хотел знать твои собственные ощущения, а не ощущения Шопенгауэра…», «Шопенгауэр вылечил тебя, но теперь нужно вылечиться от Шопенгауэра».
Последнее высказывание совершенно удивительно. Иногда православным неофитам или «философствующим» хочется сказать: да, Православие стало для вас "лекарством", оно вас исцелило, но теперь неплохо бы вас вылечить от «православия». Я намеренно написал столь категорично, подразумевая под этим, что порой при воцерковлении новообращенный становится тем самым Филиппом, для которого теория, сборники мудрых изречений — это и есть жизнь, тогда как сама жизнь проходит мимо. Вот от такого «православия-идеологии», «православия-мифа» полезно исцеляться ради других людей, ради общения с ними, ради простого человеческого участия в их жизни.
Интересный диалог состоялся между Филиппом и одной участницей группы. Филипп упрекнул ведущего группы Джулиуса в непонимании, на что услышал потрясающий отклик: «Хочешь знать, почему Джулиус тебя не понял, а Шопенгауэр понял? Я скажу тебе. Потому что Шопенгауэр мертв... а Джулиус жив. А ты не умеешь общаться с живыми людьми». Такая постановка вопроса для православных тоже очень актуальна. Действительно гораздо проще иметь дело с «мертвыми», с их наследием, с неким рафинированным мифическим прошлым, не требующим твоей живой включенности и ответственности. Гораздо труднее иметь дело с человеком, стоящим перед тобой лицом к лицу и ждущего от тебя личного живого именно твоего отклика. Жаль, что порой реальная жизнь приносится в жертву прошлому.
Сила живого общения
Что же такое группа по Ялому? В самом общем смысле, группа — это организованное общение, ради которого приходят те, у кого есть проблемы с общением. «Ни идеи, ни взгляды, ни приемы не имеют в психотерапии никакого значения, — говорит Ялом устами главного героя. — Спроси бывших пациентов, что они помнят о своем лечении? Никто не заикнется про идеи — все скажут только про отношения».
В книге достаточно подробно раскрыт смысл группы и основные принципы ее существования. «Пациенты ведут себя на занятиях точно так же, как в жизни, — замечает Джулиус, — поэтому рано или поздно непременно обнаружат свои проблемы. А дальше это уже их задача — сделать выводы из опыта работы в группе и перенести их на свои отношения с другими людьми...».
Отношения в группе не игра. Это настоящая жизнь, но жизнь в «тепличных» условиях с ограниченным числом участников и ведущим, это некое обучение жизни через проговаривание и осмысление. Провозглашается принцип «здесь и сейчас» или «никакой истории». Никто не углубляется в прошлое, разбирается и обсуждается только текущий момент в жизни группы. Меняться может только тот, кто присутствует на встрече здесь и сейчас, меняться могут его чувства, его понимание и его поведение.
Те принципы, что с годами были выработаны в психотерапевтических группах, могут быть очень полезны и важны, они оберегают общение, не дают встрече распасться. Основные из них гласят: говорить от себя и за себя, говорить о своем опыте, своих чувствах, своих мыслях; не осуждать, не оценивать свидетельства других; говорить честно именно то и именно так, как в этот момент откликается услышанное в нашей душе. Очень важна конфиденциальность. Никто не должен страдать от собственных признаний. Поэтому есть правило, что честность и смелость должны только вознаграждаться и поддерживаться.
В развитие темы я хотел бы обратить внимание на опыт групп самопомощи, действующих по 12-шаговой программе. Они очень близки к психотерапевтическим. Человек, имеющий алкогольную, химическую, игровую или другую зависимость, — вступает в группу людей таких же, как он, но выздоравливающих. По сути, на первых порах его зависимость замещается зависимостью от группы, где его могут понять и принять на равных. Но группы самопомощи — это не просто посиделки близких по духу людей, это развивающаяся поэтапно и оформленная своими традициями сложная система воспитывающих встреч. «Двенадцать шагов» и «Двенадцать традиций» выстроены так, что человек со временем через общение, через знакомство с опытом других, через понимание и поддержку выздоравливает, обретает самостоятельность, обретает новые социальные связи или восстанавливает старые и наступает момент, когда группа как нечто жизненно необходимое ему уже не нужна.
Персонаж книги Ялома Филипп тоже не совсем исцелился до прихода в группу. Благодаря «философии» он заблокировал, законсервировал свою страсть и смог окончательно исцелиться только через общение. Эта особенность «философского» исцеления, раскрытая в книге Ялома, хорошо известна тем, кто пришел к православной вере пять, десять и более лет назад во взрослом возрасте и махом изменил свою жизнь, «исцелился» от грехов. С годами грехи если не возвращаются, то, во всяком случае через внутренние влечения и переживания дают понять, что они лишь «законсервированы». Об этом много сказано в современной православной публицистике. Ялом же дает возможность взглянуть на «исцеление» с психологических и групповых позиций. И этот взгляд, по моему, может серьезно дополнить то, что мы уже знаем.
Община как место встречи
Ирвин Ялом не делает прямых и нравоучительных выводов, за него говорят герои книги, делясь своим опытом и мыслями, обсуждая свои переживания, эмоции, поступки. И в этих диалогах видно, что для нашего мира для нашего времени трудно переоценить простое человеческое общение, отношения друг к другу, отношения «я» к «ты», отношения понимания, принятия, поддержки, честной оценки, даже критики.
В «Шопенгауэр, как лекарство» очень точно, опять же через слова и размышления героев показана важность, своевременность и уместность «философии», которая не может быть «матрицей», наложенной на группу (в том числе и на христианскую общину) и формирующей ее. «Философия» помогает ввести в пространство личного общения некоторые категории, смыслы и ценности очень важные, но не выводимые из опыта и жизненных интересов большинства людей. Именно «философия» дает возможность глубоко затронуть «высшие» темы: смысл жизни, смерть, любовь, веру. «Философия» знакомит нас с опытом людей, расширяет кругозор, учит системно мыслить. Часто задолго до нашей жизни кто-то уже проделал труд и ответил на многие волнующие нас вопросы.
Но есть и обратная сторона. «Философские» установки могут поражать, затягивать, удивлять, отвечать на вопросы, но... при этом оставаться в стороне от жизни, ибо неясно, как их вплетать в жизненную ткань. Я думаю, что один из ключевых вопросов Православия — в том, как связана «философия» и жизнь? Пока этот вопрос мало кого интересует, ибо слишком многие довольствуются «философией», все больше вырождающейся в демагогию.
И при этом, сегодня темы воспитания, взросления, выздоровления сегодня во многом стали психологичными, они ориентированы на внутренние ресурсы, на личное принятие и переживание истин и ценностей. Я далек от мысли, что психотерапевтические группы или группы самопомощи — это своего рода общины или приходы (или наоборот). Мне важно было на этом ярком и понятном примере показать, что в наше время значит общение, сколь оно востребовано и целительно. Опыт малых групп говорит о большой их эффективности. Люди учатся друг у друга, исцеляются в этом пространстве равных отношений без жесткой иерархии, пространстве ответственности самой группы, пространстве внимания, доверия, личного принятия.
Пора бы и очень нужно посмотреть на православные общины и приходы как на место встречи человека и «группы», место личного общения. Каковы задачи «группы», каковы ее ресурсы, что «группа» может дать? А что и как человек может взять у «группы»? Ответы на эти вопросы очень важны, ибо тема общины не осмыслена в таких категориях. Об общинах мыслят больше теоретически, по «авторитетным» книгам и в идеалистических категориях. Сегодня «община» — это собрание с предстоятелем, обращенное почти исключительно ввысь, но не друг к другу. А надо бы и то и другое.
Юрий Белановский, заместитель руководителя Патриаршего центра духовного развития детей и молодежи
Версия для печати
Тэги:
Личность
Общество
Психология