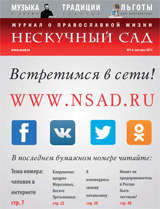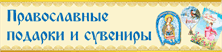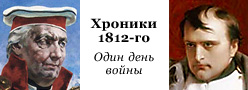Историческая драма «Орда» Андрея Прошкина заставляет задуматься о природе чудес и сопоставить прошлое этого мира с его настоящим.

Русский колдун
В основу картины положен один конкретный, документально подтвержденный эпизод из жизни святителя Алексия, митрополита Киевского (Максим Суханов), а именно – его поездка в столицу Золотой Орды город Сарай, предпринятая в 1357 году по требованию могущественного хана Джанибека (Иннокентий Дакаяров).
С молчаливого одобрения матери Тайдулы (Роза Хайруллина), Джанибек только что, при всем честном дворе, во время пира и приема ватиканских послов удавил ниткой бус собственного брата Тинибека (Андрей Панин), после чего взошел на царствование. Едва он успевает заказать широкий трон-скамейку для себя и своей любимой матери, как та по непонятным причинам в одночасье слепнет. Приглашенные китайский знахарь, индийский йог и сибирский шаман оказываются бессильны перед неизвестной хворью, и Джанибек посылает к московскому князю Ивану (Виталий Хаев) гонцов: «Слышали мы, что есть у вас поп, которому Бог дает все по молитве его. Пустите к нам сего, да испросит он здравие Тайдуле». В фильме, впрочем, это требование выражено значительно менее вежливо, в случае же отказа Джанибек обещал, не мешкая, пожечь Москву.
Причиной обращения к «русскому колдуну» (как татары называют в фильме Алексия) стали многочисленные слухи об успешном Алексиевом целительстве. Якобы однажды он целый град Владимир от чумы спас, обойдя с молебном каждый дом. Сам Алексий относительно своих экстрасенсорных способностей никаких иллюзий не питает («Забыл, что Бог чудо совершает, а не человек?»), а над пришедшим к нему князем Иваном откровенно иронизирует: «Может, ты не договариваешь? Может, надо еще, чтобы безногий ходил, а безрукий на дудке играл?» Тем не менее, делать ничего не остается, и вот митрополит, которому по самым скромным подсчетам шел шестой десяток, отправляется вместе с помощником Федькой (Александр Яценко) в многодневное и, скорее всего, последнее свое путешествие.
Фильм-житие
Уже из синопсиса становится понятно, что основной конфликт в картине должен разворачиваться в пространстве напряжения между логикой мирской – и духовной; языческой – и христианской; между торжеством грубой силы и законами божественной любви. Это соответствует и логике жития святого (а митрополит был канонизирован уже через 50 лет после своей смерти) и утверждению Прошкина, что «Орда» – не столько историческое кино, сколько фильм-миф, основанный на житийном сюжете.
С точки зрения житийного повествования, время и место действия также выбрано исключительно удачное: в середине XIV века Орда – это живое воплощение, в восприятии оседлых обществ, мирового Зла – находилась на пике своего могущества, а остальное человечество взирало на нее с отвращением и страхом. Недаром фильм начинается с того, как к Тинибеку на карачках приползают папские послы, а принимает их «Царь царей земных» в каком-то мрачном подземелье: несомненно, что для мира, именуемого цивилизованным, полчища чингизидов являли собой скорее легион поганых демонов из преисподней, жестоких, вероломных и непредсказуемых, нежели благоразумного и благородного врага. Тинибек (хоть ему осталось жить не больше десяти минут) добродушно поясняет латинянам, что не имеет против них ничего личного, но его стадам необходимы новые пастбища, а потому придется попросить их папу Иннокентия стать для Тинибека пастухом.
(Здесь, возможно, следует добавить, что при всем натурализме фильма режиссеру удалось избежать какого быто ни было налета ксенофобии, национализма и любого прочего «разжигания розни», о чем еще до завершения съемок нас предупреждали некоторые татарские СМИ.)
Сами по себе хождения сиятельных русских в Орду, «дабы отмолити людии от беды», не были чем-то из ряда вон выходящим. Памятны многие поездки князей, бояр и духовенства в огнедышащую пасть татаро-монгольского дракона. Некоторые из них оканчивались относительно благополучно, как у Александра I; другие трагически, как в случае с Михаилом Черниговским, готовым поклониться хану («Тобе, цесарю, кланяюся понеже Богъ поручил ти есть царство света сего»), но казненным за отказ пройти сквозь ритуальный огонь и поклониться идолам. Дважды ходил в Орду и предшественник Алексия Феогност, причем второе хождение окончилось большими неприятностями: русскую церковь обложили огромной данью.
Но нынешний поход в корне другой – ведь предстоит Алексию отнюдь не дипломатический торг, а ни много ни мало совершение чуда, которое одно может спасти целую Москву. Задача, человеку, скорей всего, непосильная, но ничтожная для Бога, а следовательно – к спокойному и мужественному ожиданию смерти в духе стоиков не сводимая, представляющая собой также и острый вопрос личной веры митрополита и его ответственности за вверенную ему паству. Хочешь - не хочешь, а сила молитвы главы церкви – это ведь, в каком-то смысле, и вопрос его профессиональной компетенции. Как ни отговаривайся справедливым напоминанием, что все суть в руцех Божьих, а ханшу исцелять придется не кому-нибудь, а именно тебе, твоими знаниями и молитвами.
Вот Бог, а вот порог
И все же «Орда» не ограничивается экзистенциальным сюжетом (нис-)хождения Алексия «во Адъ», это картина повествовательно обманчивая, в хорошем смысле слова, и не одномерная. Поначалу неизбежно кажется, что главное ее «послание» – в проанонсированном поединке между на вид бессильным, но светлым и непременно как-нибудь побеждающим добром и темным восточным «поганством», однако все оказывается гораздо сложнее, к чести создателей картины, и грань между добром и злом («порог») Арабов с Прошкиным проводить мудро воздерживаются. Если присмотреться, языческой ереси в картине не миновал никто. Уже три с половиной сотни лет, как Русь приняла христианство, а князь Иван всерьез рассуждает, не обратиться ли к Перуну. Даже Алексий, в отчаянии, что молитвы не помогают, механически повторяет «рецепт» евангельского исцеления.
Рабочим названием картины было «Святитель Алексий», и если бы история исчерпывалась нашим рассказом, это название было бы идеальным. Однако фильм был назван «Орда», и хотя этот заголовок появился достаточно поздно, он максимально точно раскрывает и главную тему фильма и его важнейший образ (Арабов даже сказал: «Жаль, что не я придумал»).
При всем уважении к Максиму Суханову, который совсем не «хлопотал» лицом, но добился, по общему мнению, предельной выразительности, важнейший образ «Орды» – не митрополит, а сама Орда, от ее степей с шатрами до мрачного города-крепости Сарая, выросшего на берегу предположительной Волги, с домами-сотами, тесными рынками и затхлыми производственными цехами внутри. Перед нами военизированная рабовладельческая версия библейского Вавилона, средоточия мытарств и горя; место, куда регулярно сгоняют пленников, чтобы одних определить на рабское производство, а другим сделать секир-башка; среда, в которой христианская проповедь кажется неуместнее, чем где бы то ни было (или наоборот – уместнее?). Но именно в таких пространствах, как показывают авторы картины, и проходишь испытание на веру; перефразируя Эзопа: «Здесь Сарай, здесь прыгай!».
Любопытно, что убедительно воссозданный архаический монгольский быт и урбанистика взывает к сопоставлению с нынешними мегаполисами. И это не случайная ассоциация, поскольку она сознательно предполагалась авторами фильма. В частности, отвечая на вопрос о параллелях, связывающих современное общество с тем, что показано в фильме, Прошкин подчеркивает это «уверенный, твердый прагматизм в жизни, ощущение абсолютной самодостаточности и прочности этого общества, его основ. Излишняя самонадеянность, непонимание истинного положения вещей».
В картине всячески педалируется понятие и образ порога, на который по тюркским обычаям ни в коем случае нельзя наступить – если только не желаешь зла хозяевам. Символизируя отчетливую пропасть между на вид непохожими государством-войском татаро-монголов и оседлыми обществами, образ «порога» также намекает и на невидимую грань между добром и злом.
– Где он, этот порог? – задается вопросом латинский монах, бредя по слабо освещенному коридору.
– Увидишь, – ухмыляется провожатый.
– Если бы все было так просто, – добавляем мы про себя, наученные горьким опытом.
Николай ПРОПУЩИН
Версия для печати
Тэги:
Святые
Культура
Кино