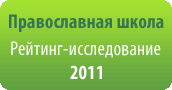Никто из тех, кто писал о культе Ленина, не писал о самом Ленине. С другой стороны, никто из тех, кто писал о Ленине, не писал о его культе.

Памятник Ленину в г. Улан-Удэ
О культе этой личности и об этой личности написано немало. Из Монблана литературы о культе Ленина я бы выбрал, разумеется, ту книжку, которая так и называется: «Культ Ленина в Советской России». Написала ее американская исследовательница Нина Тумаркин. С американской, ученой дотошностью прорыла все, что возможно.
Как ни странно, я бы выбрал еще одну книжку: «Трагическая эротика» российского ученого Бориса Колоницкого. Почему, как ни странно, потому что в ней ни слова о культе Ленина, но зато в ней речь идет о провалившихся попытках монархической пропаганды создать тот культ личности, каковой был с успехом создан пропагандой, советской.
Из Монблана Ленинианы стоит остановиться на статье Михаила Гефтера «Ульянов, он же Ленин» и его же статье «Россия и Маркс», разумеется, «Ленин в Цюрихе» Александра Солженицына, конечно, воспоминания вдовы, Надежды Крупской и воспоминания Николая Валентинова (Вольского).
Я привел этот очень короткий, но очень внушительный список не только для того, чтобы обозначить свою наглость. Вставать в такой ряд боязно, но и для того, чтобы обратить ваше внимание: никто из тех, кто писал о культе Ленина, не писал о самом Ленине. С другой стороны, никто из тех, кто писал о Ленине, не писал о его культе.
Это вполне объяснимо. Культ Ленина сложился после его смерти. Причем этот культ с разных сторон складывали политические противники. В результате, этот культ к личности имел порой самое отдаленное отношение, в отличие от культа Наполеона или даже от фантастического, гиперболического культа Сталина. Между тем было бы весьма любопытно увидеть, как пересекались культ и личность. Еще любопытнее было бы увидеть, как пересекались два культа личности: Ленина и Сталина.
Ab ovo
Уж коли мы завели речь о культе личности, то нам не обойтись без известного партийного постановления «О культе личности и его последствиях». Не для того только, чтобы поиронизировать над одним из важнейших документов в истории нашего Отечества, но для того, чтобы увидеть некий парадокс, некую проблему.
Как известно, теоретическая основа документа весьма коротка и выражена одной фразой: «Культ личности чужд марксизму и коммунистическому движению». С сожалением констатируем: это неверно. Это неверно уже хотя бы потому, что странно говорить о чуждости культа личности учению, названному по имени его основателя. Марксизм.
Но это грамматическая придирка. Сам Маркс пошучивал: «Единственно, что я могу сказать о себе, так это то, что я не марксист». Тем не менее, Энгельс в ответ на вопрос гимназиста Вильгельма Блоха (в будущем видного деятеля сионистского движения): «Верно ли, что марксизм отрицает роль личности в истории?» разразился огромным письмом, смысл которого сводился к тому, что, конечно же, нет, нимало не отрицает. Просто мы с Марксом действовали в те времена, когда роль личности гипертрофировалась, вот мы и напирали на объективные законы исторического развития. Но мы прекрасно понимали, что означает роль личности в истории. Еще бы нет: «Ведь с рождением Маркса человечество стало выше на голову».
Неслабое заявление. Все человечество и один человек, с рождением которого все человечество становится выше на голову. Если это не культ личности, то, что такое культ? Непредвзятому наблюдателю ясно, что то, что называется культом личности, имманентно любому революционному или революционаристскому, то есть, в основе своей, богоборческому движению.
Культ Марата, Робеспьера, Наполеона, и далее вплоть до Че Гевары или Фиделя. Сие вполне объяснимо логически. Если Бог устроил жизнь неправильно, несправедливо, или если Бога вовсе нет, а жизнь устроилась сама собой неправильно и несправедливо, а, сало быть, наша возможность и наш долг устроить жизнь правильно и справедливо, то в системе нашего мироздания и нашего миропонимания место Бога занимает человек.
Но "вообще человека" не существует. Существует конкретный человек, вождь революции, каковой и занимает место Бога. Вот вам и культ личности, имманентный революции.
Вернемся к культу личности и его чуждости марксизму и коммунизму. Мне могли бы возразить: в европейской социал-демократии ничего похожего на культ личности не наблюдалось даже в отношении таких популярнейших лидеров, каковы Фердинанд Лассаль, Август Бебель или Жан Жорес.
С этим нельзя не согласиться, но европейская социал-демократия встраивалась в политическую, парламентскую систему европейских стран, в полном соответствии с прогнозом Фридриха Энгельса, мол, европейским социал-демократам совершенно не обязательно сейчас рваться на баррикады, достаточно побеждать на выборах. В парламентской ситуации культу личности не вызреть. Он зреет и плодоносит в условиях революции.
Нет революции без культа личности, без: «восславим, братья, сумрачное бремя, которое в слезах народный вождь берет» (Осип Мандельштам). Однако здесь нас ожидает некая странность. Очередной парадокс.
Парадокс культа личности
В пятидесятых-шестидесятых годах ХХ века в России революцией и не пахло. Однако, не успев разоблачить культ Сталина, правящая верхушка не только сохранила культ Ленина, но принялась с прежним рвением, но уже без прежнего умения лепить другие культы, сначала Хрущева, потом Брежнева, Черненко. Выяснилось, что идеологическая, политическая, социальная система, созданная, в том числе и Лениным, не может существовать без культа личности.
То, что культы эти с треском проваливались, превращались в (если так можно выразиться) анти-культы, в вал издевательских анекдотов, дела не меняет. Более того, провал этих культов рикошетом и сильным рикошетом лупил по основополагающему, так сказать, культу отца и основателя. В данном случае, это не так и важно. Хотя было бы интересно понять, почему вокруг Ленина и Сталина сложились культы, а вокруг прочих вождей – нет.
Как ни странно, очень схожие объяснения этому дали два нобелевских лауреата, Шолохов и Пастернак. Шолохов был краток и вежлив: «Был культ, но была и личность». Пастернак оказался грубее: «Прежде нами правил маньяк и убийца, а теперь невежда и свинья». Рискну не согласиться с двумя нобелевскими лауреатами. Если в случае Брежнева и Черненко их рассуждение работает, то в случае с Хрущевым пробуксовывает.
Хрущев был очень яркой личностью. Именно личностью. Что и зафиксировано Эрнстом Неизестным в знаменитом надгробном памятнике Никите Сергеевичу. Дело не только в том, что чередующиеся остроугольные белые и черные камни у подножия памятника символизируют белое и черное, бывшее в Хрущеве, а и в том, что они символизирует его остроугольность, его яркость, каковой после него уже не было.
Однако ж и здесь создаваемый культ не сработал. Тому есть много причин, но одна особенно любопытная. Немецкий историк и журналист, Себастьян Хафнер, рассуждая о популярности в Германии таких диаметрально противоположных политиков, как еврейский интеллектуал Ратенау и австрийский антисемит Гитлер, писал: «Масса – причем я говорю не о пролетариате, но о том анонимном коллективном существе, в которое все мы, бедные и богатые, в определенный, очень важный момент сливаемся – эта масса сильнее всего реагирует на то, что меньше всего на нее похоже. Нормальность в паре со старательностью могут сделать политика популярным; но последняя любовь и последняя ненависть, обожествление и дьяволизация сберегаются только для крайностей; для тех, кто не достижим для массы, будь он много выше нее или много ниже – не так важно».
Рассуждение, неплохо объясняющее удачу культа личности Сталина и Ленина, и полную неудачу культа Хрущева. Какие бы эксцентричные эскапады ни позволял себе Никита, лысый дядька, оставался слишком своим, а вот по-дворянски картавящий интеллигент и молчаливый грузин, были не свои, были на своих не похожи.
Фашизм
Коль скоро мы рассуждаем о культе личности или вождизме, мы не можем не задержаться на двойнике и враге коммунизма – фашизме, каковой никогда не отрекался и не отрекается от обожествления вождя, от культа вождя. Враждебная родственность двух этих общественных явлений сейчас стала трюизмом, прежде была парадоксом. Когда Карл Каутский в некрологе Ленину «Герой и жертва пролетарской революции» заметил: «Муссолини – обезьяна Ленина», - даже в таком сниженном варианте родственность врагов казалась странной.
Спустя почти двадцать лет основатель движения «сменовеховства» Николай Устрялов в книге «Германский национал-социализм» создал впечатляющий образ: «Хотим мы этого или нет, но кепка Ленина, черная рубашка Муссолини и усики Гитлера изменили наш мир». Монстр у Николая Васильевича получился устрашающий. (Кстати, или, как обычно у меня – некстати – на экземпляре этой книги, хранящейся в Публичной библиотеке, имеется полустертая, карандашная надпись на форзаце: «Кирову»).
Разумеется, самое яркое и убедительное, хотя и облеченное в художественную форму, рассуждение о враждебной родственности, родственной враждебности фашизма и коммунизма, беседа нацистского интеллектуала, Лисса с коммунистическим фанатиком, Мостовским, в романе Василия Гроссмана «Жизнь и судьба».
Строго говоря, беседы никакой нет. Сцена выстраивается Гроссманом по лекалу разговора Великого инквизитора с Христом в поэме Ивана Карамазова. Говорит Лисс. Мостовский слушает. Лисс терпеливо и вежливо, хотя и чуть издевательски растолковывает Мостовскому: «Вы – наши учителя. Все, что мы сделали и делаем, мы научились от вас…»
Трудно это опровергнуть. А уж в том, что касается культа личности опровергнуть и вовсе невозможно. Культ личности стройно и строго вкладывается в фашистское мироздание. «Ein Reich, eine Partei, ein Fürer!» -- «Одно государство, одна партия, один вождь!» Но у Гроссмана интересна позиция Мостовского. Он не возражает Лиссу. Слишком диким и невозможным ему кажется то, что ему впаривает этот интеллектуальный негодяй. Мостовский после встречи с Лиссом возвращается в барак и пишет антинацистскую листовку себе на погибель.
Два культа и две личности
Насколько я понимаю Ленина, он бы точно так же отнесся к рассуждениям Лисса, доведись ему их услышать. Насколько я понимаю Сталина, его бы рассуждения Лисса нимало не покоробили. Он был бы польщен тем обстоятельством, что не просто сам эффективный менеджер, но смог обучить и других … не менее эффективных
Два культа и две эти личности связаны весьма непростыми отношениями, почти, как фашизм и коммунизм. Нельзя не заметить, например, что пик анекдотов про Ленина и послесталинских вождей совпал с возрождающимся культом Сталина, причем здесь деликатные усилия верхов или некоторой части верхов совпали с устремлениями весьма большой части низов. Фотографии Сталина на лобовых стеклах грузовиков появились раньше, чем был снят фильм «Освобождение», и мудрый, суровый, усталый человек с трубкой печально произнес с экрана: «Я солдат на генералов не меняю…»
Заметим, что два эти культа формировались почти одновременно. Культ Ленина чуть пораньше и опробованные пропагандистские приемы первого культа удачно ложились в формируемый второй культ. Некоторые приемы, само собой, отсекались. Ленин был куда более парадоксальной и сложной личностью, чем Сталин, потому и культ его получился куда более … парадоксальным.
Заметим, что первые ростки своего собственного культа Ленин встретил с раздражением. В ответ на публикацию в журнале «Коммунистический Интернационал» очерка Максима Горького «Ленин» главный герой очерка разразился негодующим письмом. Мол, в этом произведении нет ни грана марксистского. Любопытно, что это письмо могло бы стать весомым подспорьем в уже упомянутом постановлении «О культе личности…»
Не стало. По понятным причинам. Во-первых, культ Ленина в послесталинской России рушить никто не собирался. Напротив он должен быть противовесом «плохого» культа. Во-вторых, Максим Горький – классик советской литературы и основатель социалистического реализма. Ссорить одну культовую фигуру с другой не полагается. В-третьих, думаю, что это письмо все же стало исходной точкой для того самого (опять-таки, уже упомянутого мной) тезиса о чуждости культа личности марксизму.
Ленин был возмущен очерком Горького не потому, что был скромен. Он охотно позировал парижскому скульптору Аронзону, русским художникам Юрию Анненкову, Исааку Бродскому, Андрееву. Столь же охотно давал интервью. Скромный революционер – nonsense. Человек, покусившийся на изменение мира, на исправление мироздания, не может быть скромен по определению. Однако его все же возмутил очерк.
Причин тому несколько. Первая причина, человеческая, слишком человеческая. И о ней стоит сказать. Любому человеку неприятно видеть себя героем художественного произведения, то есть, не личностью, а материалом, из которого другая личность лепит нечто, апологетическое или пасквильное, не так уж и важно.
Ощущение неприятное. Я с ним хожу, болтаю, выпиваю, рыбу ловлю, на комиков в кабаре смотрю, а он, оказывается, не просто со мной дружит. Он наблюдает, запоминает и записывает. «Синьор Дринь-Дринь», - называли его сицилийские рыбаки. Мало ли кто и как меня называл? Более того, собственные слова, сказанные в раздражении или просто … под язык подвернулись, становятся сущностными характеристиками.
«Мы – русские – страшно ленивый народ. Замечали ли Вы, что все по-настоящему работящие люди у нас: или немцы, или евреи, или люди с примесью немецкой или еврейской крови?» - Да, мало ли что я скажу? Шутку брошу, необязательную или безответственную, а он ее тотчас на карандаш.
Наверняка, и у Сталина было такое же раздражение по поводу своего изображения в литературе. Но он с раздражением этим легко мирился, поскольку его культ был его политикой. Ленинский культ не был политикой Ленина. Чутьем гениального политика (или политикана, как угодно) он понял, что это не его политика. В письме он совершенно точно указал на то, что очерк-то богостроительский.
Именно так, Максим Горький, как известно, был богостроителем, было такое течение, как ни странно, в российской социал-демократии. Бога, разумеется, нет, но Бог это – великая социальная регулятивная функция. Без него никак нельзя, потому его надо не то, что выдумать, как в шутке Вольтера, но … сконструировать, построить. Построить, конечно, из человека, не из кошки же, прости Господи.
Отношение к Богу у Ленина было диаметрально противоположным. Его даже нельзя назвать атеистом. Скорее, анти-теистом. «Атеист, - по верному замечанию Бертрана Рассела, - никогда не будет взрывать церковь. Он просто в церковь не пойдет…» Для Ленина шутка Вольтера: «Если бы Бога не было, Его следовало бы выдумать», переогласовывалась по-другому: «Если бы Бог существовал, Его следовало бы уничтожить».
На полях «Философии религии» Гегеля, где речь шла о неизбежном, но печальном (для Гегеля) этапе атеизма и отрицания Бога в любом религиозном развитии, Ленин оставил надпись: «Боженьку пожалел. Ха!» Самой суровой шуткой Бога был квази-религиозный культ богоборца и врага любой религии, Ленина.
Мавзолей
Это не единственный парадокс культа. Первое же его мощное проявление, вполне стихийное, было и парадоксальным, и двусмысленным. Массовое прощание с телом Ленина, временное помещение (деревянное) для тех, кто не успел попрощаться, ставшее постоянным гранитным зиккуратом, названным … Мавзолеем, то есть, вообще-то, местом погребения восточного владыки, Мавсола.
Кто шел прощаться с Лениным? Чья скорбь была велика и неподдельна? Это не были революционеры, готовые штурмовать небо и уничтожить Бога, это не были экстремисты и социальные экспериментаторы, готовые ради мировой революции на любую, гибельную и для себя, и для страны авантюру. То есть, это не были … ленины или ленинцы. Это были люди, благодарные умершему лидеру страны, окончившему беспредел гражданской войны.
Это были люди, благодарные умершему лидеру, за то, что в последние годы его лидерства вновь открылись лавки и продотряды перестали выгребать зерно у крестьян. Это были люди, благодарные умершему лидеру за то, что в последние годы его лидерства стали возникать начатки … государственности.
И шли они прощаться к тому, для кого НЭП был передышкой; для кого мировая революция была главным делом его жизни; для кого государственность была столь же ненавистна, как и Господь Бог. Они шли прощаться к тому, кто совершенно сознательно развязал гражданскую войну. Именно он придумал лозунг: «Превратить войну империалистическую в войну гражданскую!»
Надо сказать, что то, что у Ленина получилось стихийно: оказаться избавителем от того, что сам же и затеял, Сталин стал применять сознательно и весьма умело. Михаил Гефтер блистательно вскрыл это сталинское умение, беседуя с Глебом Павловским. В самом деле, после разгрома бухаринского «правого уклона» проводится коллективизация и раскулачивание. Обещание Бухарина: «Второй революции не будет…», - нарушено.
А вслед за этим появляется статья Сталина: «Головокружение от успехов», «перегибщикам» на местах дают по шапке, а тот, кто учинил «вторую революцию», революцию в деревне, оказывается спасителем и избавителем. Сталинский сценарий именно так и развивался. Загнать страну в безвыходную ситуацию, из которой один выход – вождь и учитель.
У Ленина, повторюсь, это разыгрывалось стихийно. Его сценарий был другой. Он был обращен не на Россию, и не на сохранение своей власти в России, а на разжигание мировой революции, стартовой площадкой для которой станет Россия. В самый разгар большевистского переворота когдатошний друг Ленина, ставший его принципиальным, идейным врагом, Петр Струве заметил: «Октябрьский переворот – бунт XVII века против ХХ».
Если бы в те поры еще продолжалось бы идейное общение Ленина и Струве, Ленин согласился бы с этим метафорическим афоризмом оппонента: «Да. Истинно так… Наша задача оседлать этот бунт и на нем въехать в будущее. В счастливое, справедливое, будущее не для одной России, а для всего мира». В обширном наследии Ленина есть одна статья, не вошедшая в канон того, что стало называться ленинизмом. Это статья -- «О черносотенстве».
Удивляюсь, почему до сих пор в пропагандистском аппарате Зюганова эту статью не взяли на идеологическое вооружение. Впрочем, удивляться нечему. Они Ленина не читают. Они Льва Гумилева читают и перечитывают. Статья начиналась шокирующей для социал-демократа формулировкой: «Черносотенство есть стихийный мужицкий демократизм».
И продолжалась не менее шокирующими рассуждениями о том, что столь же стихийно черносотенство окажется союзником революции. Ленин угадал. В 1918 году накануне расстрела один из основателей черносотенных организаций Борис Никольский (конечно, тот еще … мужицкий демократ, образованный латинист и первый публикатор Блока, но «чтобы быть мелким буржуа в идеологии, вовсе не обязательно стоять за прилавком своей лавочки», - писал Карл Маркс), так вот идейный черносотенец, Борис Никольский, рассуждал в своем дневнике, дескать, большевики нам не враги. Их враги, капитализм, либерализм, слюнявая интеллигенция – и наши враги.
Ленин не брезговал никакими союзниками, ни германским генштабом во главе с Людендорфом, ни русскими монархическими генералами, вроде Брусилова, ни чеченскими националистами, вроде Асланбека и Майрбека Шариповых, не побрезговал бы и Борисом Никольским, если бы не расстрелял. В его речи на восьмом съезде партии в 1919-м году есть фраза даже обаятельная в своем лихом политическом цинизме: «Нас спрашивают: как же так? Вчера вы расстреливали меньшевиков и эсеров, а сегодня садитесь с ними за стол переговоров и даже ставите на командные посты в Красной Армии. Это – противоречие. А мы отвечаем: Да. Противоречие…»
Эксперимент
На такую откровенность ученик Ленина, Сталин, был не способен. Он мог на XIV съезде партии говорить, обращаясь к «ленинградской оппозиции», требовавшей свернуть НЭП и начать атаку на кулаков и нэпманов: «Крови товарища Бухарина хотите? Не дадим вам товарища Бухарина…», в 1929 году осуществить программу разгромленной оппозиции, в 1938 году расстрелять товарища Бухарина, но чтобы, подводя итоги такой политики, сказать: «Да. Противоречие…»? Нет. Так подставляться Иосиф Виссарионович бы не стал.
Просто не издавать свою собственную речь, запретить и изъять из обращения все статьи участников «ленинградской оппозиции» вкупе со статьями товарища Бухарина, а соответствующие фотоматериалы подчистить – нет никакого противоречия и нет никаких проблем. Цинизм товарища Сталина был цинизмом человека, чудом оказавшегося у власти и всеми силами, любыми способами старающегося эту власть удержать.
Цинизм Ленина был цинизмом верующего. Только верующего не в Бога, а в единственно верную социальную теорию. А если она верна, то есть, всесильна, или всесильна, потому что верна, вот этого ленинского силлогизма я никак осилить не мог, то можно, нужно и должно осуществить ее на практике. Пользуясь любым подходящим случаем, любым союзником, хоть Людендорфом, хоть черносотенцем.
Поставим эксперимент. Рискнем. (Экспериментаторскую природу раннего, ленинского большевизма очень хорошо понял гениальный экспериментатор, Иван Павлов, угрюмо буркнувший по поводу происходящего: «Ну, если это – эксперимент, то я бы ради него и лягушку не зарезал»). Прорвем цепь капитализма в одном месте. Может, удержимся, может, нет, но за нами подтянутся (не могут не подтянуться, раз теория верна) и остальные.
Именно так Ленин и объяснял ситуацию в преамбуле к одной из последних своих книг «Детская болезнь левизны в коммунизме». (Любопытно, что название книги: поклон Августу Бебелю, как-то заметившему: «Большевизм – детская болезнь рабочего движения»). Мол, сейчас-то Советская Россия впереди планеты всей, но после неизбежной мировой революции, она вновь окажется «отсталой страной уже в советском, социалистическом смысле».
Как ни странно, но в чем-то неистовый фанатик и авантюрист оказался прав. Тот процесс, который начался после большевистского переворота во всем мире иначе, как революцией, назвать нельзя. И «новый курс» президента Рузвельта, и Народный фронт во Франции, и приход к власти в Англии рабочего, лейбористского правительства так же непредставимы без советского опыта, как и приход к власти фашистов в Италии и нацистов в Германии. Другое дело, что революция эта происходила совсем не так, как это мог представить себе Ленин, но то, что в результате ее Россия вновь оказалась отсталой страной, это он предугадал точно.
После смерти
Всего этого Ленин 1922-1924 годах знать не мог. Он умирал, потерпев поражение. Самое парадоксальное поражение из всех возможных. Он выиграл страну и проиграл революцию. Понимал ли он, что большевикам, чтобы удержаться, надо будет возрождать державу во всем ненавистном ему, революционеру, обличии? С жандармерией, с культом доброго и мудрого царя-батюшки, который за народ и против бюрократов, чиновников (черносотенный, заметим, идеал), с прочими милыми особенностями, отработанными и опробованными его врагами? Понимал ли он, что в этих условиях революция, его революция станет средством шантажа державы других держав?
«Махнем Октябрь на Дарданеллы!» - шутил еще не расстрелянный Антонов-Овсеенко после подписания пакта с нацистской Германией. Точно шутил. «Октябрь на Дарданеллы» - славная формула советской внешней политики. Скорее всего, Ленин это если не понимал, то предчувствовал. И очень этого не хотел. Есть одно маленькое побочное доказательство ленинских опасений в этом отношении.
Изменение его псевдонима. Вообще-то, псевдоним Владимира Ульянова – Николай Ленин. Еще в 1919-м году Бернард Шоу дарил книжку лидеру Октябрьской революции со следующей надписью: «Николаю Ленину, самому интеллектуальному политику среди политиков современной Европы». Шоу есть Шоу. Он же не Ленина похвалил, он современных ему политиков обругал. Если экстремист и авантюрист оказывается среди вас самым интеллектуальным, то вы-то что за … идиоты.
Это в скобках. Не в скобках отметим, что уже в 1920-м году Николай Ленин стал Владимиром Лениным. Причина понятна. Кто были правителями России? Николай I, Николай II, а вот и … третий. В этот ряд ненавистнику царей становиться не хотелось. От этого … противоречия он бы с такой легкостью не отмахнулся: «Да. Противоречие».
И после себя он оставил противоречие. Теперь по прошествии многих лет становится понятно, что «борьба диадохов» после смерти Ленина была вполне идейной борьбой между именно что учениками Ленина. Одни учились у Ленина удерживать власть любыми средствами и любыми возможностями, другие – устраивать революции.
Первый же спор вокруг наследия Ленина был символичен. Это был спор о Мавзолее. Троцкий был против этого (назовем чудовище его настоящим именем) кощунства. Понятно, что и вдова Ленина, Крупская, была против выставленного напоказ мертвого тела своего мужа. Сталин был за такое увековечение памяти вождя. Интересно, что союзником Сталина в этом вопросе оказался Леонид Красин по весьма любопытной причине.
Большевик Красин был … федоровец. Он полагал, что федоровскую утопию воскрешения всех умерших на земле и последующего заселения воскресшими всей Вселенной как раз и осуществит коммунизм. Ну, вот и первая опытная лаборатория готова – сохраненное тело готово к воскрешению. Сталин на такие фантазмы был не способен. Он просто сказал, что товарищи из провинции говорят, что у русского народа есть некоторые традиции почитания дорогих умерших людей. Хорошо бы эти традиции учитывать.
Троцкий не преминул спросить, какие ж это такие традиции товарищи из провинции имеют в виду? Уж не почитание ли мощей? Товарищ Сталин умело отмолчался. Он, вообще, умел отмалчиваться. Понятно, что именно эти традиции имелись в виду. Когда летом 1925 года в Москве произошло наводнение и воды Москва-реки текли по улицам вместе с водами канализационных стоков, моментально родилась шутка, приписанная опальному патриарху Тихону: «По мощам и благовоние».
То, что в стране происходит создание квази-религиозного культа, умные и остроумные наблюдатели заметили сразу и даже откликнулись на это создание весьма, надо признать, язвительно. Никто или почти никто этого отклика не заметил. Может быть, потому, что он был слишком явен, как спрятанное письмо в знаменитом рассказе Эдгара По бросался в глаза.
Я имею в виду фильм Якова Протазанова по сценарию Ильфа, Петрова и Сигизмунда Кржижановского «Чудо святого Йоргена». Жулики фабрикуют культ. Это бы ладно, это вполне вкладывается в антирелигиозную политику Советского государства. Но картинка, видеоряд… Толпа чающих чуда паломников, ежели посмотреть ее после документальных кадров массового прощания с Лениным, абсолютная и очень злая пародия на это массовое шествие.
Ученики Ленина
Ученики Ленина аккуратно распределились по территориям. Москва стала столицей советской державы. Петроград, переименованный в Ленинград, стал столицей мировой революции. Именно здесь собирались конгрессы Коммунистического Интернационала, руководил городом, тот же, кто был и руководителем Коминтерна, Григорий Зиновьев. Он же приступил к изданию первого полного собрания сочинений вождя.
Собственно, он и был тем, кто стал создавать ленинизм, учение о мировой революции. Это была одна сторона культа. Нельзя сказать, что не действенная. У Бориса Слуцкого есть ироническое стихотворение о том, что, если в школах в 10-х классах проходят статьи про то, как брать власть, то странно, что, в конце концов, не найдется достаточного количества отличников, каковые попытаются школьные знания претворить в жизнь.
Так оно и было. В послевоенном СССР возникло довольно большое количество подпольных молодежных кружков, антисталинских и про-ленинских. Руководитель одного из таких кружков, полный тезка Бориса Слуцкого, сын погибшего под Москвой солдата, был в 1949 году расстрелян. Да и сам главный враг Ленина, создавший наиболее убедительный художественный образ этого политика и человека, Александр Солженицын накануне ареста был настроен анти-сталински, но отнюдь не анти-ленински.
В противном случае он бы не писал своей жене с фронта: «Мы стоим на границе СССР, на границе превращения войны отечественной в войну революционную. На наших штыках – революция…»
В ответ на такую идеологическую бомбу Сталин принимал свои контрмеры, вкладывающиеся в тот же формируемый культ Ленина, а заодно и в свой культ. Первой из таких невероятно эффективных мер был ленинский призыв 1924 года. Массовый приток в партию. Задача была ясна. Растворить небольшое число революционеров в массе людей, которым революция ни к чему, а вот личная преданность вождю и преданность новому государству очень даже к чему.
Один человек из вступивших в партию в ленинский призыв кажется мне весьма показательным, бывший колчаковский офицер, Кошкин. Он стал создателем советской бухгалтерии. Но гораздо важнее и интереснее не его достижения в бухгалтерии. Во время войны он перешел на сторону немцев, активно сотрудничал с генералом Власовым. После войны напечатал первое обстоятельное статистическое исследование коммунистического террора в России.
Такой человек будет вступать в партию и из карьерных соображений, и из соображений вполне державных, государственнических, неплохо сформулированных булгаковским профессором Преображенским: «Мне все равно, какая кокарда на городовом. Мне важно, чтобы он стоял». Такой человек никакие революционаристские устремления никаких вождей не поддержит. А уж тех вождей, которым он проиграл гражданскую войну, тем более не поддержит.
Дети
Сталин на редкость удачно воспользовался еще и тем самым зиновьевским Полным собранием сочинений Ленина. Схема проста. Это все – ленинское, это – теория, и сам Ленин – теоретик, от практической жизни оторванный. А практика и практик – это я, глубоко погруженный в заботы практического, непосредственного бытия. Схема эта уверенно варьировалась во всех ленинианах сталинского времени, где Ленин такой странноватый, чуточку даже эксцентричный, комичный, вот и на пулю нарывается, а Сталин – сама житейская мудрость, само неколебимое спокойствие.
Схема эта доплеснулась аж до европейской классики, если кто-то читал соцреалистическую макулатуру, вроде «Хлеба» Алексея Толстого, и кроме того одолел гениального «Иосифа и его братьев» (таких мазохистов почти не осталось, я понимаю) – то этот мазохист в одном месте философского романа высокообразованного немца не может не вздрогнуть от дежа вю. Это встреча Эхнатона и … Иосифа.
Великий религиозный реформатор, мечтающий преобразовать свою страну, а через нее и весь мир, внедряющий новую монотеистическую религию, такой немного странноватый, немного не от мира сего, ну, мечтатель, интеллигент, беседует с опытным хозяйственником, великолепным управленцем. Управленец мечтателю объясняет необходимость еще и хозяйственных реформ и, вообще, объясняет ему житейскую, жизненную ситуацию. И зовут управленца – Иосиф, и говорит он, само собой, с акцентом.
Если уж до Томаса Манна эта схема доплеснулась, если уж Томас Манн аж в древнем Египте расположил «кремлевского мечтателя» и «эффективного менеджера», то, что уж говорить о России. Здесь схема работала по полной. По этой же схеме выходило, что культ Ленина, обращенный ко всем, раз культ, главным образом должен быть обращен к подрастающему поколению.
Сталин тоже для всех, но главным образом для взрослых, житейски опытных. Ленин – вотчина детства, отрочества, юности. Посему октябрята со значками-звездочками, в которые вплавлена фотография курчавого Володи Ульянова, пионерская организация имени Владимира Ильича, ленинский комсомол. Посему вал детских книжек о Ленине и о детстве Ленина.
И ни одной соответствующей книжки о Сталине. «Из латыни пять, из математики пять…» - тиражировалось повсеместно, но что говорил семинарист Джугашвили, вернувшись из кутаисской семинарии, неизвестно до сих пор. Сталин не позволял творцам своего культа касаться своего детства. Хотя с пропагандистской точки зрения нищее детство Иосифа Джугашвили представляло куда более лакомый кусок, чем дворянско-интеллигентский быт семьи Ульяновых. Этот-то быт был уничтожен подчистую.
Разумеется, Иосиф Сталин ненавидел свое нищее детство. И очень не хотел, чтобы ему кто-нибудь об этом напоминал. Но если бы это было нужно для политики, он бы потерпел. Это было не нужно. Было нужно умелое дополнение-противопоставление двух вождей, одного – мечтателя, другого – практика. Схема работала вплоть до обрушения второго культа. Когда в «мечтателя» Ленина стали встраивать реальные черты жестокого и безжалостного социального экспериментатора, рискового и циничного фанатика-авантюриста его культ стал крошиться. У этого были и другие причины, но я уже и без того затянул свои рассуждения…
Текст: Никита ЕЛИСЕЕВ
Версия для печати
Тэги:
Личность
Общество
Политика
Гонения
История