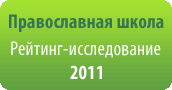Каждый москвич, да и большинство россиян знают Театр кукол имени Образцова в Москве с его затейливыми «живыми» часами на фасаде.
Мы уверены, что читателям «Нескучного сада» будет интересно узнать, что автор часов, скульптор Дмитрий Михайлович ШАХОВСКОЙ, — православный человек, сын священника, создатель двух иконостасов и даже одного храма — Новомучеников Российских в Бутове. Обо всем этом наш корреспондент Федор КОТРЕЛЕВ беседует с Дмитрием Шаховским в его московской мастерской.
 Скульптор Дмитрий ШАХОВСКОЙ — сын православного священника Михаила Шика, расстрелянного в 1937 году, и представительницы старинного дворянского рода Наталии Дмитриевны Шаховской. Родился в 1928 году в Сергиевом Посаде. Творческая деятельность Дмитрия Шаховского очень разнообразна: он автор знаменитых часов на фасаде Кукольного театра имени Образцова в Москве, иконостасов московских храмов свт. Митрофана Воронежского и Преображения в Тушине. По его же проекту построен известный всем москвичам храм Новомучеников Российских на Бутовском полигоне. Живет и работает Дмитрий Михайлович в доме, построенном в 40-е годы в Москве его тестем, блестящим русским графиком В.А. Фаворским. Здесь и состоялась наша беседа. Скульптор Дмитрий ШАХОВСКОЙ — сын православного священника Михаила Шика, расстрелянного в 1937 году, и представительницы старинного дворянского рода Наталии Дмитриевны Шаховской. Родился в 1928 году в Сергиевом Посаде. Творческая деятельность Дмитрия Шаховского очень разнообразна: он автор знаменитых часов на фасаде Кукольного театра имени Образцова в Москве, иконостасов московских храмов свт. Митрофана Воронежского и Преображения в Тушине. По его же проекту построен известный всем москвичам храм Новомучеников Российских на Бутовском полигоне. Живет и работает Дмитрий Михайлович в доме, построенном в 40-е годы в Москве его тестем, блестящим русским графиком В.А. Фаворским. Здесь и состоялась наша беседа. |
«У нас было счастливое детство»
— Дмитрий Михайлович, вы росли в непростое время. Отец — священник, мать — дворянка, в стране — гонения на Церковь и построение нового общества на костях старого. У вас было трудное детство?
— Да нет, я вообще думаю, детям никогда не трудно... Мне и тогда казалось и сейчас кажется, да и мои братья и сестры подтверждают, что у нас было счастливое детство... В отличие от многих других, кто был лишен детства. Ведь на самом деле мы бедности особой не ощущали и не голодали никогда, во всяком случае до войны. А всякие тревоги, которыми была окружена наша жизнь, нас не очень касались. В нашей семье было пятеро детей: Сережа, Маша, Лиза, потом я — четвертый — и последний Николай. Хозяйство и воспитание в основном было на маме: в моем детстве она уже нигде не служила, занималась домом. Впрочем, помимо домашних дел она еще и литературным творчеством занималась: писала рассказы и выполняла переводческие работы.
— Как был устроен детский быт в вашей семье? Ваша мама была из дворян. Это сказывалось на ее воспитательных принципах?
— Специальным образом дворянское происхождение мамы, пожалуй, не сказывалось на нашем воспитании. Музыкой мы не занимались: у нас инструмента вообще в доме не было. Языкам, впрочем, немножко учили — французским и немецким занимались. А так — занимались дома обычными школьными предметами. У нас всегда кто-нибудь жил — в основном монахини, изгнанные из монастырей, все они были из близких кругов, интеллигентные. И вот они занимались с нами всякими предметами... Поэтому мы все шли в школу поздно: кто в третий, кто в четвертый класс. Кстати, в школе мы себя чувствовали очень свободно, потому что наша подготовка была лучше, чем у других. Что же касается воспитательных принципов, то они были продиктованы самой жизнью и заключались в том, что у нас было много обязанностей по дому. Я считаю, что это очень хорошо. У всех, даже у маленьких, были какие-то ежедневные задания по хозяйству. Сделал — будь свободен, играй. Была в воспитании и некоторая строгость. Вот, например, летом мы всегда ходили купаться. Шли все вместе, большой компанией. Но время этого купания было строго определенным — до завтрака. Часов в восемь или в полдевятого идем на речку — и не позже. То есть купание было не вечером, когда потеплее, когда можно расслабиться, поваляться, а в прохладное время — для бодрости. Правило строгое: к десяти утра быть дома к утреннему чаю.
— История вашей семьи, конечно, неразрывно связана с драматической судьбой вашего отца. Как сложилась его жизнь?
— Папа окончил историко-философский факультет Московского университета. До женитьбы, так же как и мама, он жил с родителями в Москве. А вот когда они поженились (это было в 1918-м), оказалось, что жить негде. Рассчитывать на собственное жилье в Москве в то время было невозможно, и они решили уехать в Сергиев Посад. Там он поступил работать в комиссию по охране сокровищ Лавры, председателем которой был о. Павел Флоренский. Они составляли описи имущества Лавры, писали научные статьи. В 1925 году отец был рукоположен во диаконы, а уже в 1926-м его арестовали. Какое-то время он провел в тюрьме, потом попал в ссылку, в Каракалпакию, город Турткуль. Мама с братом Сергеем к нему туда даже ездили, о чем сохранились мамины воспоминания — они не так давно были опубликованы. В священники папа был рукоположен в ссылке: он вернулся в конце 1928 года уже священником.
Наступали трудные времена, пошли массовые аресты. И тогда родители решили, что надо срочно бежать из Посада — тогда уже Загорска — в более тихое место. Первое время жили где-то по подмосковным дачам. Снимали то в Томилине, то в деревне Хлыстово, то еще где-то. Отец служил на разных приходах в Москве. Сначала у Бориса и Глеба на Поварской, потом в церкви Девяти мучеников на Пресне и потом в храме на Соломенной сторожке — его пригласил близкий друг о. Владимир Амбарцумов, бывший там настоятелем. В конце концов мы оказались в городе Малоярославце. Сначала сняли там какое-то помещение, а потом и дом купили. С покупкой дома это было чудо. Денег, конечно, не было никаких, чтобы купить дом. И вдруг деду, папиному отцу, который раньше занимался коммерцией, кто-то приносит старый, еще дореволюционный долг — три тысячи рублей. Деньги на тот момент были немалые, и на них купили дом. В нем мы и прожили до самой маминой смерти в 1942 году. А папу второй раз арестовали в 37-м, и он уже не вернулся...
— А вы его хорошо помните?
— Да. Первые воспоминания о нем относятся к 31-му году. Это строительство пристройки к нашему дому в Малоярославце. В ту пору отец ушел за штат, и эта пристройка как раз была нужна для совершения домашних служб. Отец был из так называемых «непоминающих». Тогда создалась такая ситуация, что митрополита Сергия нужно было поминать как предстоятеля Церкви, хотя еще был жив митрополит Петр. Папа и его единомышленники до последнего пытались сохранить единство с Церковью. Когда было объявлено о поминании Сергия при живом Петре, они решили, что это каноническое нарушение. Многие тогда ушли, хотя папа некоторое время еще оставался в штате. У нас сохранилось папино письмо к его близкому другу, отцу Сергию Мансурову, где папа объясняет, почему он продолжает поминать митрополита Сергия. Но в конце концов и папа ушел за штат. Впрочем, это совсем не было разрывом с Церковью. Папа не хлопал дверью, он не был лишен сана. Он просто стал заштатным священником и продолжал служить дома. В этом не было никакого преступления перед Церковью, зато было серьезное нарушение государственного закона. По гражданскому закону он не имел права служить дома, вследствие чего службы были тайными. Поначалу на них бывали только самые близкие, проверенные люди, родственники — и мы, дети, конечно. Со временем стали приходить и несколько надежных семей из города.
— А в школе у вас были какие-нибудь проблемы в связи с вашим происхождением — поповскими детьми или княжатами не дразнили?
— Нет. Надо сказать, что и не особенно-то знали вокруг про происхождение. Папа служил тайно, ходил всегда в штатском. Но все же иногда с мальчишками на улице приходилось колотиться немножко. Надо сказать, Малоярославец того времени был городом своеобразным: там очень много было культурного населения, высланных. Это ведь уже за 101-м километром. Так что некоторая солидарность была. К нам даже с вступлением в пионеры не приставали, никто из нас и не был пионером. А позже и в комсомол тащили очень слабо: я, например, сразу говорил, что недостоин... Так что проблем с происхождением не было даже после ареста папы в 1937-м. Проблемы начались под немцами.
— Ваша семья попала в оккупацию?
— Да. Когда началась война, эвакуация для нашей семьи была невозможна, и мы остались в Малоярославце. Здесь было спокойнее, чем в Москве, которую почти сразу стали бомбить. Так что к нам еще и бабушка с двумя сестрами из Москвы приехали. Они приехали летом, а потом уже выехать было нельзя: город был оккупирован. И вот бабушку, папину маму, еврейку, вызывают в комендатуру. Говорят: в Калуге организуется гетто и фрау придется туда поехать. И детям тоже, поскольку они полукровки. А было это в двадцатых числах декабря, прямо перед Рождеством. Но оказалось, что в Рождество у них комендатура целых три дня не работала. А числа 27-28-го немцы стали быстро сматываться: наши наступали, и им было уже не до нас. Первого числа наши вошли в город. Мы были спасены. Потом была очень голодная весна 42-го года. Мама была уже очень больна — туберкулезный процесс, она не выдержала. Той же весной ее отвезли с большими трудами, можно сказать чудом, в Москву, которая была еще закрыта. Полтора месяца она пробыла в больнице и скончалась. После ее смерти нас с младшим братом как несовершеннолетних усыновила тетка, мамина сестра. Фамилию пришлось поменять, поэтому мы с ним стали Шаховскими, а остальные так и остались Шиками.
 «По природе своей я люблю рукоделие»
«По природе своей я люблю рукоделие»
— Когда вы поняли, что хотите быть художником?
— В детстве я рисовал, как и все дети. Но потом выяснилось, что я этим занимаюсь больше, чем другие. Где-то классе в шестом, в последний год моего обучения в школе, я стал ходить на кружок. У нас был хороший очень учитель рисования — Александр Ефимович Дмитриев. Он был краевед, собиратель исторических документов, по его инициативе был даже сделан маленький музейчик памяти 1812 года. Художник он был не выдающийся, но очень хороший человек. А потом я уехал в Москву и поступил в училище.
— А как складывалась ваша жизнь в Москве?
— Году в 45-м или 46-м вернулись из эвакуации Фаворские. Владимир Андреевич Фаворский был близким другом моего отца и моим крестным. Так вот, когда они вернулись из Самарканда, я уже стал, так сказать, «прислоняться» к Владимиру Андреевичу. А потом они предложили взять меня к себе жить. В тот момент, это был 1947 год, я уже поступил в Московский институт прикладного и декоративного искусства. Я стал жить у Фаворских и до сих живу в доме Владимира Андреевича.
— Кого вы считаете своим учителем?
— Больше всего я, наверное, получил как раз от Фаворского. Думаю — больше, чем за все обучение в училище и институте. Хотя и там были хорошие учителя: Дерунов Владимир Иванович, ученик Матвеева, Дейнека композицию преподавал.
— Фаворский был графиком. Как же получилось, что вы избрали именно скульптуру?
— Ну, во-первых, он был довольно универсальным. А потом мне как-то больше понравилось отделение скульптуры. Я по природе своей больше люблю рукоделие. А живопись — мне казалось, что у меня не хватит усидчивости на нее. Там нужна большая волевая мобилизация. А тут имеешь дело уже с вещами, они как бы сами тебя направляют.
— Самая известная ваша работа из «государственных» — Театр Образцова. Почему вы обратились к театру? Нельзя ли хотя бы вкратце рассказать о том, как и из чего делались знаменитые часы?
— Интерес к театральной тематике вырос из того, что вождей и официоза я производить не хотел, а тут можно было не кривя душой зарабатывать на жизнь. Вот так в 1970 году я и получил этот заказ. И кстати, это и есть одна из моих самых любимых работ — она из числа тех, что мне до сих пор нравятся. При изготовлении часов использовано много разных материалов: и нержавейка, и черный металл, и пластмасса. А куклы выполнены из стеклоткани по деревянным моделям, потом отформованы и сдублированы в более стойком материале. Все это мы делали сами. Ну разве только обрамление этих домиков — эти щиты по эскизам делались на заводе. А еще часовой механизм — его делал один чудо-электронщик. Ему надо было дать только узлы движения и деревянные фигуры, а уж он сам все подключал. А вообще, мы сначала мечтали механические часы сделать, но оказалось, что их сейчас никто не делает, да и дорого это безумно.
— Кроме Театра Образцова были еще другие работы в театрах?
— Да, вот, например, в Ташкенте Театр кукол. Там я делал двери металлические — такие украшенные, парадные. У меня вообще была идея, что театр начинается не с гардероба, а именно с дверей. Двери театра — это, так сказать, вход в другой мир... Двери я делал из толстых стальных листов — 10-миллиметровых. И по этим листам газосваркой вырезаны полосы. Получается как бы драпировка. Варил их сварщик под моим руководством: я ему рисую мелом, а он ведет по рисунку. Ему плохо видно в очках, а я ему говорю: «Быстрее! Быстрее!..» — или там: «Расчеркни больше...» Можно ведь варить по-разному: где-то глаже, где-то более рыхло. И получилась такая вот игра линий. Потом там были вырезаны птицы — тоже с неровным, рисованным как бы краем. Потом на них еще наваривался рисунок электросваркой и наносилась гравировка.
— Но ведь параллельно с госзаказами вы еще работали «для себя», в мастерской. Скажите, а все-таки вы делили искусство на две части: для себя и для заработка?
— Нет, я никогда не делил. От моих учителей, от Фаворского и его круга, я воспринял такую установку, что искусство — это все равно искусство, и ты за него отвечаешь в любом случае. Просто то, что я делал для государства, — это был единственно возможный заработок. Заработать личным творчеством в те времена рассчитывать не приходилось.
— Можете ли вы назвать себя реалистом в творчестве?
— Фаворский на каком-то собрании сказал: «Сказать про себя: я реалист — это все равно что сказать: я святой». Настоящий реализм — это лишь желаемое. Я имею в виду подлинный реализм, а не какой-нибудь там социалистический или коммерческий. То есть такой, который дает не изображение, а образ. Творчество Андрея Рублева — вот высший реализм.
— А как вы относитесь к абстракции?
— Мне нравятся очень многие абстрактные работы. Но я никак не согласен с расхожим убеждением многих художников, критиков, да и публики, что абстракция как бы отменяет изобразительное искусство. Это не так. Изобразительность как таковую еще можно отме нить, но образ отменить нельзя. Мне кажется, что это очень глубокий вопрос, касающийся христианской культуры. Христианство дало возможность видеть высокий образ. Ведь никакие другие религии лица Бога не видели, а христианство давало возможность увидеть Образ.
А этим освящен и вообще всякий образ. Мне кажется, что отказ от образного искусства может означать вообще отказ от христианской культуры как таковой.
«Пока еще живы те, кто помнит своих отцов, лежащих в Бутове»
— В какой-то момент вы обратились к творчеству для Церкви. Расскажите об этом.
— Тут есть две причины. Во-первых, это стало возможно. Стали строить и восстанавливать храмы, появилась возможность в этом участвовать.
И в тоже время государственные заказы стали сокращаться. Ну и конечно еще вот что: когда началось церковное строительство, были некоторые надежды, что можно внести какую-то более свежую струю в него. То есть не повторять плохо понятые византийские мотивы, часто уже обессмысленные ремесленными повторами, а находить живые, новые.
— С церковными заказчиками легко найти общий язык?
— Когда как. Например, в храме Митрофана Воронежского было довольно просто. Настоятель — отец Дмитрий Смирнов, человек с хорошим художественным образованием и вкусом. Он не вмешивался в работу, ему нравилось то, что мы делали. Но бывает и по-другому. Вот в Тушине, например, были некоторые досадные моменты. Там мы не сумели довести до единства мозаики, элементы из камня, оформление окон. Когда мы пришли в этот храм, там все было сбито, обнаженный кирпич. Это было грандиозное пространство, такая мощная архитектура! Хотелось поддержать эту силу, включиться в эту пространственную звонкость... Но у тех, кто руководил работами, были другие устремления — чтобы все было как-то прилично, чистенько, как положено... И начались конфликты. Работа не была доведена до конца. А то, что оставалось незаконченным, было предложено совершенно другим мастерам. Они в мой камень встроили гипсовые, какие-то точеные элементы, стали резьбу мелкую кругом добавлять. И все потонуло в этом украшательстве.

Колокольня храма Новомучеников Российских в Бутове.
В 30-е годы на Бутовском полигоне НКВД были расстреляны и похоронены десятки тысяч людей, среди которых был и иерей Михаил Шик. В середине 90-х его сын Д.М. Шаховской стал одним из строителей храма-памятника
— Вы были одним из инициаторов и строителей храма в Бутове. Как родилась идея построить храм на бывшем полигоне НКВД?
— В начале 90-х годов стала открываться информация о массовых расстрелах, производившихся на Бутовском полигоне в 30-е годы. Там только за 37-38-й годы около 10 тысяч расстреляно было.
А всего чуть ли не 100 тысяч человек там лежит. Так мы узнали, что там наши отцы. В 1994 году создалась община будущего храма в честь Новомучеников. В нее вошло 20 человек: кроме меня это были родственники отца Николая Кандаурова, отца Сергия Сидорова, отца Владимира Амбарцумова — в частности покойный отец Глеб Каледа, который был его зятем. Мы составили церковный совет, потом собрали кое-какие пожертвования и начали подготовительные работы. Отвели землю, поставили поклонный крест, его и сейчас можно там видеть.
— А почему решили построить именно деревянный храм?
— Нам хотелось сделать все как можно быстрее — пока еще живы те, кто помнит своих отцов, лежащих в Бутове. Кроме того, мы исходили из того, что это храм «на крови», то есть стоящий на земле, принявшей останки многих тысяч мучеников. Тревожить эту землю масштабными инженерными работами, необходимыми для глубокого фундамента, мы не хотели. Сразу было принято решение, что храм будет легким. Чтобы не связываться с долгим проектированием, предполагалось воспользоваться чем-то готовым. Вплоть даже до того, что мы рассматривали возможность просто поставить типовой ангар — такие, знаете, бывают полукруглые, из листового железа. Переоборудовать его немножко, барабан сделать, купол... Потом пришли к идее деревянного храма, стали искать место, где его рубить, искать мастеров. Наконец остановились на Солигаличе — это в Костромской области. Там нашлись мастера, которые и сделали сруб.
— Архитектурный проект храма сделали вы?
— Сначала я пытался привлечь архитекторов, потом оказалось, что это не сдвигает нас с места, потому что архитекторы идут по своему, так сказать, накатанному пути. А мне хотелось сделать что-то соответствующее этому месту и этим трагическим событиям. Облик будущего храма представлялся простым, таким, какими бывают раннехристианские храмы-мартирии. Я пытался соединить строгую ясность однокупольного каменного храма-куба XII-XIV веков с традицией деревянных храмов XVII-XIX веков. При этом старался избегать стилизаций и прямых повторений. Долго рисовал макет, долго изучал историю, нашел образцы, которые соответствовали моему замыслу. В результате храм вышел очень традиционный и в то же время немножечко новый по архитектуре. По типу он ближе всего к Георгиевскому храму на реке Ерга в Вологодской области и к Богоявленскому храму Ново-Иерусалимского монастыря. В нем нет никаких усложнений и излишеств — мне вообще нравятся простые формы. Самое важное — это пропорции, вся красота в них.
— Как шло строительство?
— Нашли в Солигаличе бригаду, показали им рисунки, размеры. Они посмотрели, сказали: все понятно, и стали рубить. Потом, когда они кое-что срубили, мы съездили посмотрели: все нормально. И они стали продолжать. Срубили они хорошо. Правда, собирали здесь, на месте, уже другие — те не захотели бросать свои хозяйства, да и лесхоз, через который мы вели расчет, их надул с оплатой. Эти работали хуже, и приходилось за всем присматривать. Но в результате все получилось как будто бы неплохо. В 95-м году закончили, в 96-м храм был освящен.
— В создании иконостаса вы тоже участвовали?
— Да. Сначала я хотел сделать простой однорядный иконостас: только местный ряд, низенькую такую алтарную преграду с колонками и карнизом. Иконостас должен был быть весь резным. Но эта идея сразу встретила неприятие на совете. Тогда я стал формировать иконостас, исходя из икон: подбирали нужный набор икон — это не я решал — и делали под них конструкцию. Несколько раз пробовали «методом тыка» и наконец нащупали. Получилось, мне кажется, неплохо. Иконописцы были молодые ребята из Ростова. Они сделали с некоторой долей наивности, но, мне кажется, живо, без мертвечины. А это очень важно. Получился такой легкий, как бы акварельный иконостас. Ну и потом построили под него тябла — деревянную основу иконостаса. Резьбой я уже решил его не украшать, а использовать технику басмы — прокатной чеканки по тонким листам металла, прибивающимся к дереву.
— Как вы думаете, есть ли у скульптуры перспективы в Православной Церкви?
— Я думаю, что скульптура не невозможна в Православии. Ведь были даже целые периоды и направления развития православной скульптуры — взять хотя бы ту же Пермскую скульптуру. Это было очень интересное и замечательное искусство, хотя возродить, думаю, его уже нельзя. Какие-то эксперименты со скульптурой сейчас идут: вот вы знаете, наверное, в Петровском монастыре в одном из храмов полностью керамическое оформление сделано — такой керамист Куприянов его делал. У меня это вызывает смешанные чувства. Мне кажется, что по духу это как-то ушло в сторону. Но если говорить о скульптуре в Православии, то ведь надо помнить, что есть не только русская традиция. В грузинских храмах есть очень высокие образцы скульптуры. Вообще традиции, которые пришли из Византии в Грузию, Армению, дали прекрасные образцы скульптуры. А в русской практике скульптура не так прижилась. У нас, конечно, икона гораздо выше.
 Из «Рассказов о детях» Н.Д. Шаховской-Шик Из «Рассказов о детях» Н.Д. Шаховской-Шик
Сережа писал своему отцу в Казахстан: «Мне больше всего хочется видеть тебя, папу, а потом верблюда». По правде сказать, Сережа сам еще не умел писать, а диктовал свои письма маме. Верблюда он видел раз в Зоологическом саду, но это был самый обыкновенный верблюд и просто стоял за перегородкой. А папа писал, что у него верблюд ходит и вертит огромное колесо с маленькими кувшинчиками, которые забирают воду из глубокой канавы и выливают в маленькие канавки, по которым она бежит на поля.
И еще папа писал, что у него по городу ходят маленькие ослики и на них можно ездить. Все это было очень интересно, и Сережа едва мог дождаться, когда он c мамой поедет к папе. Мама решила взять его с собой, потому что ему еще не было пяти лет: билета брать не нужно.
Путь был долгий. Ехали в поезде больше пяти суток. И хотя мама часто говорила: «Сережа, смотри, верблюды», Сереже все-таки немножко надоело. Верблюды паслись далеко, и смотреть на них из окон было неинтересно. К городу Чарджую приехали под вечер и сейчас же поехали на извозчике в гостиницу. Мама жаловалась, что всю ночь не спала от клопов, а Сережа очень удивился: он ни одного клопа не видал. Комната была странная: окно было посередине потолка, и ничего из него не было видно.
После чаю пошли в контору пароходства, и там оказалось, что пароход пойдет только через десять дней. Мама очень огорчилась. Ждать так долго было нельзя. Она пошла в чайхану искать попутчиков. Сережа шел с ней, но все останавливался, и его приходилось тянуть за руку: проехала арба на oгромных колесах — спицы у колес в два метра, протрусили два ослика с узбекскими мальчиками, попадались навстречу узбеки в полосатых халатах и больших бараньих шапках.
«Неужели им не жарко?» — думал Сережа.
Солнце палило нещадно. Реки нигде не было видно. Чайхана — это просто чайная. Только в ней нет ни столов, ни стульев, а сидят на полу на циновках и пьют чай из маленьких полоскательниц.
Попутчики нашлись: два молодых студента и сухенький старичок-агроном. Они сказали, что лодка есть, маленькая, как раз на пять человек. Ехать можно уже сегодня, но выезжать надо вечером, когда стемнеет, и потихоньку, чтобы не узнали другие лодочники.
— Почему? — удивилась мама.
— У них очередь, кому везти, а лодки очень большие, человек на двадцать, надо ждать несколько дней, пока соберется партия. А эти лодочники не здешние, русские, из Турткуля приехали по своему делу и едут назад, хотят захватить пассажиров.
Турткуль — это был город, где жил папа.
<***>
Дима* очень любил свою молодую хорошенькую няню. Часто он подходил к ней и, задрав высоко голову (так как он приходился ей как раз до колена), говорил с застенчивой нежностью:
— Нюся, я тебя люблю.
Когда няня вечером уходила (а она иногда уходила то на вечер, то на собрание), Дима капризничал — и маме приходилось около него сидеть.
Так было и в этот вечер. Нюша сказала жалостливо: «Уж вы, матушка, посидите у Димочки».
Димину мать звали матушкой, потому что его отец был священник. Дима не засыпал так долго, что мать вышла из маленькой комнатки, где Дима спал с няней, в большую и сказала старшим детям:
— Молитесь, дети, без меня и раздевайтесь, а то уж поздно.
Только она успела это сказать, как в дверь постучались и вошли двое: председательница сельсовета и милиционер.
— Что? — спросила мать.
— Мы пришли делать опись имущества, — сказала председательница. У нее лицо было точно вырезанное из дерева и мужской голос. - Вы не уплатили налога.
_______________________
*Дима — герой нашего интервью Дмитрий Михайлович. |
Фото Вячеслава ЛАГУТКИНА
Версия для печати









 Из «Рассказов о детях» Н.Д. Шаховской-Шик
Из «Рассказов о детях» Н.Д. Шаховской-Шик