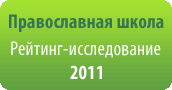Поэт Юрий Кузнецов в своих воспоминаниях рассказывает, как в литинституте на первой лекции по античной литературе в аудиторию вошла седая женщина, оглядела студентов и спросила: «И что, все вы писатели?» «Да, мы все писатели, все пишем», — ответили ей хором. «Бедные! Вы же ничего не напишите. Все давно написано. Все есть в античности». «И седая пифия захохотала, — с некоторым ужасом пишет Кузнецов. — Застрелить ее, что ли, из чеховского ружья? Да не достанешь. И калибр мелковат».
Мы боялись, что разговор с этой женщиной, которая еще прибавила лет с тех пор, получится каким-нибудь антикварным. Ничуть не бывало. Аза Алибековна ТАХО-ГОДИ нас тоже встретила с некоторым вызовом, и беседа вышла драматичной. Никакая она не пифия.
Справка
 Аза Алибековна ТАХО-ГОДИ родилась в 1922 году в Махачкале. Российский филолог-классик, доктор филологических наук. Спутница жизни и хранительница наследия выдающегося философа Алексея Федоровича Лосева (+1988).
Аза Алибековна ТАХО-ГОДИ родилась в 1922 году в Махачкале. Российский филолог-классик, доктор филологических наук. Спутница жизни и хранительница наследия выдающегося философа Алексея Федоровича Лосева (+1988).
С 1962-го по 1996 год заведовала кафедрой классической филологии МГУ. Подготовила более 20 кандидатов наук. Ее перу принадлежит около 1000 различных публикаций, в том числе монографии «Платон» и «Аристотель», учебник «Античная литература» (в соавторстве с А. Ф. Лосевым), работы о Гомере, Порфирии, Прокле, многочисленные статьи из энциклопедии «Мифы народов мира» собраны в книгу «Боги и герои Древней Греции». Комментатор «Сочинений» Платона на русском языке и «Ранних диалогов Платона», ответственный редактор полного собрания сочинений Платона. Ведет издательскую деятельность по публикации трудов А. Ф. Лосева. Выпустила биографию А. Ф. Лосева в серии «ЖЗЛ».
Девочка из семьи партийного начальника
— Какие были ваши первые детские увлечения? Неужели сразу античность?
— Погодите с увлечениями… Сначала — с Праздником! Ведь сегодня Рождество Пресвятой Богородицы! А то некоторые молодые люди забывают про главное… Что касается детства — какая античность? Я собиралась быть балериной. И балет люблю до сих пор, у меня есть балетные энциклопедии, книги по балету — это перешло в эстетическое любование. Еще хотела быть археологом и филологом, поскольку у меня в роду были археологи и филологи. Средневековье очень интересовало. Античность пришла гораздо позже, после того, как я в 22 года познакомилась с Алексеем Федоровичем Лосевым. Сдавала ему экзамен сначала, а потом и с ним, и с его женой Валентиной Михайловной, замечательной женщиной, подружилась. До этого мне казалось, что античность — это настолько просто, что и заниматься, может быть, не стоит. И только после знакомства с Алексеем Федоровичем поняла, что античность — совсем не ясная, не прекрасная, это только так кажется непосвященным. Она полна настоящих страшных бездн, и, чтобы ею заниматься, много сил надо потратить. Надо же хорошо знать языки древние. Теперь — пожалуйста, сколько угодно гимназий. И в университетах есть специальные классические отделения. Я и сейчас со студентами МГУ десять часов в неделю занимаюсь.
А я в двадцать втором родилась. Пошла в школу в тридцатые годы, тогда школы едва-едва начали себя ощущать по-человечески. Правда, еще преподавали старые прекрасные педагоги, те, дореволюционные, с большим запасом знаний, и школа у меня была очень хорошая. Но я стала заниматься раньше, самостоятельно, поскольку у меня в роду филологи. Дядя — профессор Семенов Леонид Петрович, основатель известной Лермонтовской энциклопедии, — прислал мне учебники греческого и латинского языков. Я совсем была еще девчонкой. Мой отец занимал достаточно важное место в ЦК партии и оттуда, из библиотеки, приносил мне книги, чуть ли иногда не антикварные. Я сама начала заниматься, учителей специальных не было. Что ж тут такого особенного? Меня с детства учили разным языкам. Мама занималась со мной немецким. В 29-м году мы переехали в Москву, и здесь у меня была гувернантка-француженка, замечательная мадам Жозефина, которая обучала меня французскому. Учили меня и английскому. Когда я пошла в школу, у меня уже был запас языковой.
— В те годы, наверное, выбирали филологию как убежище от времени?
— Я тогда вряд ли что-то осознавала, дети есть дети. Но уже до студенческих лет пришлось много пережить. Отца арестовали и расстреляли в 37-м, хотя с Иосифом Виссарионовичем Сталиным он был лично знаком еще по Кавказу, и очень хорошо. Отец у меня был революционер-романтик. Он был дагестанец, у меня половина — дагестанская, хотя я не знаю дагестанских языков и никогда не занималась специально Дагестаном. И отец, кстати сказать, поддерживал это, считая, что совершенно не обязательно заниматься этой маленькой горной страной. Отец был очень известный общественный деятель, недаром его имя есть в энциклопедиях. Я вспоминаю, как мама весной обычно вытаскивала проветрить великолепные меха, которые Иосиф Виссарионович дарил ей лично. Только ей некуда было их надевать, у мамы нас было четверо детей, и она все силы направляла на наше воспитание. А через год после расстрела отца ее арестовали. Она попала в мордовские лагеря и была там пять лет. А поскольку отец до ареста заведовал всеми школами в ЦК партии, в специальном отделе, которому все средние школы подчинялись, меня вообще никуда не принимали. Никуда деться невозможно, все вузы для меня были закрыты. В конце концов, меня приняли в один из скромных вузов. Отец основал и возглавлял в Москве особый институт национальностей, в него приезжали со всей страны получать высококвалифицированное образование. А его заместителем был известный профессор. Он потом оказался кем-то вроде проректора — тогда не было этих специальных наименований — в институте имени Карла Либкнехта, куда меня и приняли поэтому. Институт находился на Разгуляе, в доме, который когда-то принадлежал знаменитому собирателю древностей графу Мусину-Пушкину и славился тем, что там сгорело «Слово о полку Игореве», все этим страшно гордились. Начало войны я встретила в этом знаменитом доме. Нас эвакуировали в замечательное место — на Алтай. Там красоты удивительные, совсем не похожие на Кавказ. На Кавказе горы мощные, ледяные, суровые, а на Алтае все очень мягкое, приятное. Все профессора, из которых многие были арестованы и выпущены, стремились в это наше алтайское пребывание. Там собрался цвет профессуры по всем наукам. Мы заняли почти весь городок на реке Майма, который теперь называется Горно-Алтайск. Тогда его называли Ойрот-Тура — маленький городок с деревянными тротуарами, но с почтой, телеграфом. Основное население — тюркское. Из-за политики его все время переименовывали и, в конце концов, назвали «алтайцы». На самом деле это ойроты, они есть и в Монголии, и в Китае. Когда мы приехали, ойротов выселили из домов педучилища, поселили нас. У нас там был целый свой городок, и мы очень дружно жили, профессора и студенты, все друг другу помогали в жизненных сложностях. Стояли морозы по 45-50 градусов, нам выдали валенки, заботились о нас очень хорошо. В валенках по замерзшей реке, среди роскошных елей можно было бегать, путешествовать. Жили мы, студенты, в общежитии, надо было топить. Что делали? Выбирали такое время, когда ничего не видно, предположим, идет очень большой снег, и шли на улицы разбирать деревянные тротуары, вытаскивали всякие жерди. У нас там была замечательная жизнь. А когда мы вернулись из эвакуации, то попали в Пединститут имени Ленина, куда меня не принимали. Там как раз организовали классическое отделение и приняли на работу Алексея Федоровича Лосева. Его в это время изгнали из Московского университета за идеализм, а вернее, из-за доносов некоторых его коллег, хотевших занять его место. Таким образом мы и встретились. Видите, как промысел Божий ведет человека? Кажется, что все очень плохо, не знаешь, куда деваться, а все правильно же, в конце концов, оказалось.
Тайники в корешках книг
— А к вере вы когда пришли?
— Это дело сложное, хотя я помню, когда мне было года два или три, нянька говорила: «Посмотри на небо — видишь, Боженька сидит?» И крестилась при этом. Ну, я смотрела и говорила: «Вижу» — это первое мое воспоминание. У нас была семья очень образованная, необыкновенно культурная. Все было заставлено шкафами с книгами на всех языках, так что можно было лазить, смотреть все что угодно. Единственное, чего не было никогда — Библии, Евангелия. Это было умолчание. Я вела дневник на французском языке, из дневниковых тетрадей у меня кое-что сохранилось до сих пор. Так вот, в одной из тетрадок можно прочитать: «Хочу учить “Отче наш”. А как учить? Нет же ничего, текстов никаких нет.
— А откуда вы узнали, что есть такая молитва?
— По-моему, это врожденное чувство, что есть Господь Бог. Помню, как мы детьми, когда жили на Кавказе, бегали во время дождя и пели: «Дождик-дождик, перестань, я поеду в Арестань, Богу молиться, кресту поклониться…» Еще мне помогла моя любовь к литературе. Здесь, в Москве, я залезла однажды в отцовский шкаф и нашла томик Генриха Гейне. В его юношеской драме разбойники, какие-то рыцари, что мне было очень интересно, и один из разбойников кается, он полностью читает молитву «Отче наш». Потом моя француженка мадам Жозефина подарила мне роскошно изданную Библию на французском языке — на тончайшей бумаге с золотым обрезом, новейшее парижское издание. Она у меня до сих пор хранится, это для меня драгоценность. Я ее читала и начала что-то осознавать. А поскольку у меня еще латинские были книжки, то я написала в дневнике еще и на латинском языке: «Рater noster». Все очень трудно было, не нынешние времена. Никто теперь ничего не ценит. Я считаю, кто приходит к вере в трудные времена, это действительно по-настоящему.
— Но крестились вы уже позже?
— Кто же мог в нашей неверующей семье, семье высокого партийного начальника, меня крестить? Я помню такой эпизод: я вхожу в кухню и вдруг вижу на полу крестик, в этот момент кто-то за мной входит. Я с перепугу хватаю крестик и выбрасываю, чтобы никто не заметил, что держу его в руках. После чего я вырезала крохотные деревянные крестики, складывала их в шелковую крохотную сумочку и запрятывала, чтобы никто не видел. А куда прятать? У меня было самое надежное место — шкаф с книгами, мне всегда покупали иностранные книги, на всех языках, роскошно изданные. И мешочек со своими крестиками я прятала в корешок книги. Отец по рождению был мусульманином, а на самом деле — человек без веры. А мать была воспитана в верующей семье, но потом за годы революции и гражданской войны у нее какая-то индифферентность выработалась. Более того, ей же в молодости надо было выйти замуж за человека нерусского, иной веры, а православным это не разрешалось. Хотя он кончал русскую классическую гимназию, потом Императорский Московский университет, юридический факультет, учился у очень известных выдающихся профессоров. И ради брака мать перешла в лютеранство, которое ей абсолютно ничего не дало. Позднее царским указом разрешили все эти браки. Еще позднее, после революции, пастор, который венчал моих родителей, должен был спасаться, и отец помог ему уехать за границу… Но когда я познакомилась с Лосевым, тут-то меня и крестили. Мне уже было 26 лет. Крестили меня с именем Наталья в известном храме Преображения Господня в Переделкине. Крестной была матушка, мужа которой большевики расстреляли. Сколько в двадцатые, да и тридцатые годы священников было убито: от высших иерархов до самых простых иереев! Ужасно все это. Но зато, если уж люди верили, то вера была твердая.
— Тогда даже просто войти в храм было, наверное, опасно?
— Одного знакомого профессора, который пытался пойти в храм, тут же подловили, и он оправдывался, говорил, что хотел эстетически обозреть это здание. На первый случай поверили, оставили его. А я помню, как нас классом водили по местам разных баррикадных боев на Красной Пресне. И в одном из переулков мы увидели храм. Все за учительницей мимо прошли, а мы, несколько девчонок, тихо пробрались внутрь. Службы не было, мы вошли, перекрестились тайно, под фартуками… Знаете, какой это был храм? Иоанна Предтечи. Он никогда не закрывался и сейчас есть.
Казнь за милосердие
— Вы начали рассказывать, как у вас произошел переход к античности…
— Алексей Федорович был назначен моим руководителем по изучению греческих писателей, и мне очень сознательно пришлось их читать. Надо же было и культуру изучать, а не просто так читать поверху. Так становилось видно, какие эпохи пережила античность, какие страшные были времена — с жертвоприношениями, человеческими смертями. Очень хорошо в стихотворении у Тютчева говорится: «покров блистающий накинут», а что под этим покровом — в этом разобраться очень сложно. Мы не просто читали — анализировали, устраивали специальные вечера в институте. И я выступала с чтением греческих стихов и стихов на античные темы у русских писателей. Русские писатели, особенно Валерий Брюсов, очень любили эти античные темы, и я с удовольствием это все читала. Мой отец близко знал Брюсова, все эти имена были для меня не отвлеченные, а домашние.
— Немножко про Алексея Федоровича расскажите. Он как-то не похож на античного человека в расхожем представлении: не дионисиец, не служака такой римский… Почему все же античность?
— Он человек ХХ века. Когда он учился в Московском университете, он кончал два отделения, а не одно: философское и классической филологии. Классическая филология — это и есть античность. Поскольку первой специальностью сначала, в двадцатые годы, можно было заниматься, он выпускал свои знаменитые книги по философии. Но это кончилось для него плохо: его арестовали и отправили в концлагерь, строить Беломорско-Балтийский канал, а его супругу отправили в лагерь на Алтай. Всюду же лагеря были в огромном количестве. Недаром Солженицын писал «Архипелаг ГУЛАГ». Этот архипелаг занимал гигантское пространство. Алексей Федорович все это испытал. Сколько там народу перемерло на этой стройке — ужас! Когда его выпустили, по окончании строительства канала, то ему как ударнику — а он ходил в ударниках — был разрешен въезд в Москву. И снимали судимость в награду за то, что работал на такой великой стройке. Но тогда все время шли процессы. То инженеров собирали, судили и отправляли в лагеря, то славистов. Почему-то считалось, что если ты занимаешься русской литературой, особенно древнерусской, то ты враг.
— Значит, и классическая филология не была гарантией того, что можно будет наукой спокойно заниматься?
— Нет. Видите, человека засадили из-за его книг. Особенно из-за «Диалектики мифа», где он доказал, что весь этот социализм в одной стране — миф. Открыто сказал все, что думал, хотя и знал, как это опасно, писал об этом жене, но не мог удержаться, надо было высказаться. По возвращении из лагеря он перешел на классическую филологию. Это был выход: его же вызвали в Центральный комитет и официально запретили заниматься философией. Но самое интересное: даже на верхах были люди, которые задумывались. Очень высокий чин, который вызвал Лосева, вдруг спросил: «Алексей Федорович, а Бог есть?» Но Алексей Федорович уже проученный был, он сказал: «А вы что, Ленина не читали, об абсолютной истине?» Тот испугался, говорит: «Да, да… Ну, перейдем к делу». Ведь абсолютная истина — это Бог и есть. Так что его спасло, что он мог заниматься классической филологией. Те, кто ему запрещал философию, не понимали, что можно заниматься классической филологией и одновременно — философией античной культуры. Алексей Федорович писал «Историю античной эстетики» в десяти книгах, это название было специально дано. Никто из этих запретителей не соображал, что для античности философия, мифология и эстетика — это одно и то же. Это была история всей античной культуры — переход от язычества к христианству.
— То есть, на ваш взгляд, те мыслители, которые находили в античной культуре предчувствие христианства, правы? Например, в Средние века о Вергилии говорили, что он предсказал Христа…
— Да, считали, что Вергилий в своих эклогах напророчил, сам не очень сознавая, что будет такое замечательное время. Но впереди был длительный тысячелетний путь. Хотя философы постоянно задумывались, особенно тот же Платон, который говорил про высшее Благо, высшее добро, к которому должны люди стремиться. Это уже было предчувствие. Причем у учеников Платона высшее Благо и высшее добро — это еще и высшая Любовь. А мы знаем, что высшая любовь — это уже высокое христианство. Возьмите Данте. У него в «Божественной комедии» как раз все и кончается этой высшей любовью. Постепенно идеи зрели, но не могли еще воплотиться по-настоящему.
— Можно высказать такое предположение: до античных времен человек был грубее, а пройдя эту эпоху, столько передумал, так настрадался, что оказался готов принять Сына Божьего?
— Это была мировая революция — приход Христа. Почитайте — только подлинники — античных поэтов: абсолютная безжалостность, никакого милосердия, никакой любви — человек уничтожается. Если в своем городе он и чувствует себя более-менее гражданином, то главное, чтобы он и был гражданином, остальное побоку. Когда Сократ попытался взывать к милосердию, его казнили. А если ты вышел за стены своего города, то ты уже вообще никто, тебя могут тут же обратить в рабство, а раб — это не человек. Суровое, страшное дело — вот вам, пожалуйста, что называется «античность».
— Вы как-то рассказывали, что у Алексея Федоровича был духовник, который ему сказал: «Ты страсти свои бросай, а науку не бросай!» У него всю жизнь был один духовник?
— Всю жизнь не получалось. Всех же арестовывали: сегодня ты на месте, а завтра тебя уже нет. О последнем духовнике Алексея Федоровича можно прочитать в знаменитой книге «За Христа пострадавшие», изданной под руководством протоиерея Владимира Воробьева, которого я хорошо помню просто молодым человеком, получившим физико-математическое образование, кандидатом наук. Мы с ним дружим, он меня посещает. Так он поместил в этом томе статью об отце Иоанне Селецком. Это был человек совершенно исключительный, причем ученый, большой эрудит, знаток культуры, европейской и русской. Но он вынужден был скрываться, поэтому общаться было очень опасно. Он жил в затворе, если бы его обнаружили, его бы ждала гибель. Но верная паства его всячески охраняла. Мать известного ныне протоиерея отца Александра Салтыкова, Татьяна Павловна, была тайно связана с отцом Иоанном, и она соединила Алексея Федоровича с ним. Салтыковы — тоже семья наших старинных друзей, отца Александра я помню школьником. Мы недавно с ним вспоминали как раз это время. Так вот с помощью его матушки Алексей Федорович посылал отцу Иоанну свои письма, тот ему отвечал. Это, конечно, были не просто обыкновенные письма, он исповедовался на расстоянии. Отец Иоанн давал отпущение. Это была потрясающая переписка. Письма передавались с оказией, по цепочке, с надежными людьми, которых никто бы не заподозрил. Каждый раз просили, чтобы все записки немедленно уничтожались по прочтении. Страшная история, если найдут. Это было очень опасно. Но я их не уничтожила. Я их спрятала и недавно впервые опубликовала в своей книге «Жизнь и судьба: Воспоминания».. Отец Александр на это мне сказал: «Аза Алибековна, по-моему, это — самое главное, что вы сделали».
Текст: Андрей КУЛЬБА
Версия для печати








 Аза Алибековна ТАХО-ГОДИ родилась в 1922 году в Махачкале. Российский филолог-классик, доктор филологических наук. Спутница жизни и хранительница наследия выдающегося философа Алексея Федоровича Лосева (+1988).
Аза Алибековна ТАХО-ГОДИ родилась в 1922 году в Махачкале. Российский филолог-классик, доктор филологических наук. Спутница жизни и хранительница наследия выдающегося философа Алексея Федоровича Лосева (+1988).